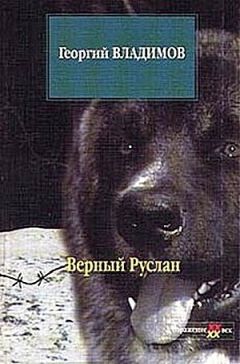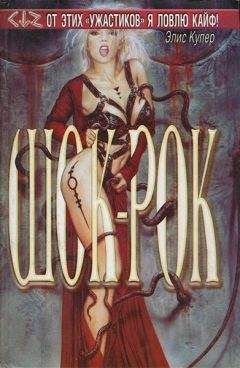Трубка упала на рычаг, и время опять потекло медленно, можно было вновь жарко приникать друг к другу, переплетаясь, как стебли, но равенства и согласия в их любви, только что как будто достигнутых, уже не было, что-то иное вторглось и требовало своего места в его сознании, и она это чувствовала и с этим соглашалась, жалея его и только робко прося побыть с нею, не уходить так далеко. Однако далекий и как будто совсем посторонний образ маячил в его мозгу, образ тех, прячущихся на узкой полоске под обрывом, снедаемых страхом и все же делающих дело, для кого-нибудь последнее в жизни. И ему не давало покоя, что он что-то упустил и не может вспомнить, что еще следовало приказать, но вдруг опять властно заговорил Шестериков:
— Але, прошу назваться… Ну, считайте, Киреев говорит. Что там шестая рота поделывает?.. Готова? Пускайте роту. С Богом. Людям объявили насчет наград? Пять званиев Героя на роту дадено, кто первым уцепится… Ну, лады.
— Что он делает? — спросила она испуганным шепотом.
— Ничего особенного. Командует армией. Ты мне его не сбивай.
— Что же одна рота сможет?
— Все правильно. Он дело знает. Сейчас батальон поднимет.
И, точно Шестериков мог это услышать, он уже опять кому-то звонил:
— Как там люди?.. Сладко ночевали, глазки слипаются? Кончай ночевать!.. Командующий, значит, так велели: людей накормить, а водки им не давать… «Почему», «почему»! Ну, сам же знаешь, река пьяных не любит. На том берегу по двойной примут…
Она вздохнула протяжно, как ребенок, спросила печально:
— Пора нам прощаться? — И, не дождавшись ответа, сказала решительно: Я с этим батальоном пойду.
Она не просила разрешения, это было ее дело, ее боевая обязанность, в которую он никогда не вмешивался. Он лишь подивился нежданному совпадению. Словно бы она обо всем догадалась.
Все же он еще раз хотел того, что могло быть последним. Он поймал себя на том, что не думает о ней, для которой это, быть может, уже не так желанно. Но и укорив себя, все же глухо повторил:
— Еще не пора. — Он вложил в эти слова двойной смысл, она поняла и головой коснулась его плеча. Он добавил: — Еще колонна должна объявиться.
— Какая колонна?
— Какая надо. Не забивай себе голову…
Было договорено, что танковая походная колонна, идущая к траверзу Мырятина по плавной дуге, объявится в эфире с половины пути. Для этого оставят там радиста, который выйдет на связь лишь через полчаса после ее ухода. Если его и засекут пеленгаторы, огонь обрушится на него одного. И возможный смертник, наверное, медлил надеть наушники, вытянуть антенну, дать свои позывные. Генерал его понимал, а все же изнывал от нетерпения, подступающего гнева.
Он поднес к глазам руку с светящимися часами, которые не снял. Ночь еще чернела в распахнутом окне, еще мерцали звезды, а время летело неумолимо. И вот взревел наконец зуммер, и Шестериков громче обычного заговорил в трубку:
— Объявился радист? Порядок, благодарю! — И, как бы предупреждая вопрос генерала, сам спросил: — А не засекли его?.. Гляди-ко, фриц тоже не спит, службу несет… Да уж, пора будить. Щас доложу.
Но, положив трубку, продолжал сидеть, громко, как жестью, шелестя бумагой. А ночь в окне уже не была так не проницаема, как несколько минут назад, к ее черноте примешивалась робкая просинь. В том последнем, от чего невозможно было отказаться, он прощался с женщиной, как прощаются с жизнью, с самым дорогим в ней, искупающим все страдания, обиды, предательства судьбы. И она отвечала ему так же прощально, пусть без горячности, без стенаний, которые и хотелось бы ему услышать, но с таким глубоким, страстным, упрямым молчанием, как если б уже принесла последнюю жертву любимому и больше отдать было нечего.
И когда разомкнулись, долго не произносили ни слова, лежали в оцепенении, далекие друг от друга. Так же, в молчании, поднялись, и она смотрела на него, запрокинув голову, опустив руки. Он успел подумать, что от этой ночи, которая была уже на исходе, может быть, что-то останется — новая жизнь, и она ее понесет так же покорно, какой всегда была с ним. Но эту мысль, и пугающую, и внушившую гордость, перебил зуммер.
— На подходе уже? — кричал Шестериков. — Говорите, Торопиловку проследовали?.. Быстрые! И чего наблюдатели докладывают?.. Ни одной не потеряли?.. Значится, могу доложить — все целы коробочки, примуса, тарахтелки? Благодарность от лица службы!
Наклоняясь, опуская книзу чуть продолговатые колокольчатые чашки девических грудей, еще не утративших для него своей неповторимости и тайны, и значит, еще любимых, она подбирала с полу свою одежду, которой теперь больше стеснялась, чем наготы, грубую одежду не девушки, а солдата. Он порывисто к ней шагнул, вспомнив, что и ей сегодня то же предстоит, что и ему. Но больше думал уже о другом, о себе, об армии, изготовившейся к переправе, когда привлек к себе тонкое теплое тело, стиснул, поцеловал ее в лоб. И сказал, глядя уже куда-то сквозь стены, поверх ее темени:
— Береги себя, дочка.
3
Танки…
Танки…
Танки…
Здравствуй, наша сталь! С. Кирсанов
Как все удавалось ему поначалу, как ложилось в намеченные сроки!
Танковый полк прибыл еще до света и втянулся в длинный неглубокий овраг, выходивший косо, под острым углом, к Днепру. Устьем оврага была уютная бухточка, тихая заводь, куда могли войти мелкосидящие танковые паромы и опустить на песок свои ржавые искромсанные аппарели. И они уже с ночи сгрудились там, причаленные бортами друг к другу, легонько покачиваясь и поскрипывая. Приняв на себя все руководство переправой, он сам и присмотрел эту бухточку, и распорядился, чтоб просчитали течение и снос, да погнали бы в воду саперов с шестами — промерить глубины, и чтоб было с запасом, чтоб под тяжестью танков паромы бы не просели до дна.
Между тем правый берег молчал, и не было сигнала, что переправившаяся рота закрепилась, очистила хоть двести метров будущего плацдарма. Молчание это вселяло, как водится, тревогу, но могло быть и добрым знаком, что все идет по плану, и вот-вот прохрипит в наушниках веселый, блудливый голос: «Киреев! Ты, говорят, женишься? Когда ж на свадьбу пригласишь?» И с той же котиной ухмылкой ответят ему: «Женюсь, да невеста задерживается, долго марафет наводит…» Эту немудрящую конспирацию немцы, конечно же, сразу рассекретят, поднимется суматошный лай крупнокалиберных пулеметов, тяжкое уханье гаубиц, и покажутся недооцененной отрадой едва поредевшая ночная мгла, шелест осоки и камыша, обиженный вскрик чем-то потревоженной птицы.
Он ехал ухабистой дорогой, стелющейся по дну оврага, вздрагивая под своей кожанкой от предутреннего холодка, но больше от возбуждения и нетерпения, и одна за другой выплывали из сумрака темные громады — его «коробочки», его «керосинки», «примуса», «тарахтелки». Побитые, изгрызенные осколками, многажды латанные, покрытые копотью, они спрятали свои раны и шрамы под ветвями, еще не сброшенными с башен, привязанными шпагатом к стволам пушек. Вот что он упустил, пожалуй, — распорядиться, чтоб натянули над оврагом маскировочные сети. Но может быть, и не понадобятся они — если все сложится по его плану, танки уйдут к переправе еще в темноте.
Он обогнал две полковые кухни на конной тяге, передвигавшиеся неспешно от танка к танку; экипажи, не сходя с брони, а кто и прямо из люка, тянулись вниз с котелками, куда им щедро сыпали черпаком комковатое варево. Туман, застлавший дно оврага, смешивался с дымом кухонь, с дизельным выхлопом, еще не успевшим рассеяться, пахло соляркой, мясной едой, лошадьми, — он втягивал эти запахи раздувающимися ноздрями и взбадривался, одолевая свой страх перед тем, что затеял он и что должно было вот сейчас начаться.
Появление командующего было до того неожиданным, что на него поначалу не обращали внимания, но все же срабатывал таинственный, ему не видимый телеграф, и где-то в середине колонны уже выходил ему навстречу командир полка — с чумазым лицом и, верно, красными от недосыпа глазами. Под шлемофоном различалась в полумраке темная челка, а по верхней губе продергивалась ниточка усов. Такого образца усики генерал Кобрисов привык видеть по утрам в зеркале, бреясь; у командира полка, при худобе лица и черных запавших глазах, они выглядели иначе и делали его похожим на грузина. Мода в 38-й армии, как уже не раз отмечал генерал, исходила от него; те, кто не мог его видеть, перенимали ее от вышестоящих, — и значит, он, а не какой-нибудь легендарный разведчик или иной герой, был самым популярным в армии человеком; это и приятно было сознавать, и отчасти раздражало: если каждый захочет походить на Кобрисова, мудрено отличиться самому Кобрисову.
Рапорт командира он выслушивал сидя, но не утерпел, выбрался из «виллиса», разрешающим жестом опустил его руку, вскинутую к шлемофону, затем поймал ее и крепко, порывисто стиснул, горячую и грязную.