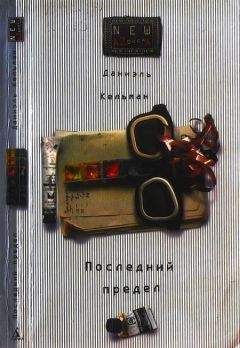— Вам нравятся картины?
— Это сейчас не важно, — откликнулся Манц. Квиллинг испуганно смотрел на него. — Это Мануэль Каминский.
— Знаю, — отмахнулся Хохгарт и взглядом поискал кого-то в толпе. — Никто из вас не видел Яблоника? — Он сунул руки в карманы и ушел.
— Я пишу о Мануэле книгу, — объявил я. — Поэтому мы, конечно, должны…
— Я поклонник вашего раннего творчества, — сказал Квиллинг.
— Вот как? — удивился Каминский.
— Поздние вещи я как-то не очень понимаю.
— Это ваш пейзаж с лугом в галерее Тейт?{22} — спросил Манц. — Он меня просто сразил!
— Это не я, это Фрейд написал, — поправил его Каминский.
— Фрейд? — переспросила Верена Мангольд.
— Люсьен Фрейд.
— Прошу прощения, — не растерялся Манц. — Sorry!
— Я хочу сесть, — сказал Каминский.
— Дело в том, — важно пояснил я, — что мы здесь проездом. Больше я открыть пока не вправе.
— Добрый вечер! — сказал седой человек.
Это был Август Вальрат, один из лучших художников страны. Знатоки его ценили, но ему как-то не везло; так уж получилось, что ни один крупный журнал о нем не написал. А теперь он был слишком стар для популярности, что поделаешь, он уже давно занимался живописью и упустил свой шанс прославиться. Он был лучше Квиллинга, это все знали. Он тоже это знал, и даже Квиллинг это знал. И все-таки галерея Хохгарта никогда бы не устроила его выставку.
— Это Мануэль Каминский! — провозгласил Манц. Тоненькая женщина положила руку ему на плечо и прильнула к нему, он ей улыбнулся.
— Да он ведь давно умер, — поразился Вальрат. Верена Мангольд шумно ахнула, Манц отпустил свою подругу, я испуганно посмотрел на Каминского.
— Если сейчас не сяду, то точно умру.
Я взял Каминского под локоть и подвел его к расставленным у стены стульям.
— Я пишу биографию Мануэля! — громко объявил я. — Поэтому мы сюда и пришли. Мы с ним. Мы.
— Прошу прощения, — вмешался Вальрат. — У меня это невольно вырвалось, вы ведь живой классик. Как Марсель Дюшан{23} или Брынкуши{24}.
— Брынкуши? — переспросила Верена Мангольд.
— Марсель был позер. Идиот, невесть что о себе воображавший, — сказал Каминский.
— Вы не могли бы дать мне интервью? — спросил Манц.
— Да, — сказал я.
— Нет, — сказал Каминский.
Я кивнул Манцу и протянул руку: подожди, я все устрою! Манц бессмысленным взглядом уставился на меня.
— Дюшан — значительная фигура, — сказал Вальрат. — Мимо него-то ни в коем случае пройти нельзя.
— Какая разница, кто значительная фигура, а кто нет. Живопись — вот что важно, — заметил Каминский.
— А Дюшан тоже здесь? — спросила Верена Мангольд.
Каминский со стоном опустился на раскладной стульчик, я его поддержал, Манц с любопытством навис над моим плечом.
— А ты не так уж мало о нем знаешь, — тихо сказал я.
Манц кивнул.
— Я когда-то написал его некролог.
— Что?!
— Лет десять назад, я тогда работал редактором отдела культуры в «Вечерних известиях». Моей основной специальностью были некрологи про запас, на всякий случай. Как хорошо, что все это в прошлом!
Каминский сидел, опираясь на трость, повесив голову, нижняя челюсть у него двигалась, как будто он что-то пережевывает; если бы в зале было потише, слышалось бы его причмокиванье. Над его головой на коллаже Квиллинга был изображен телевизор, с экрана которого бил густой поток крови, а рядом красовалось граффити: «Watch it!»[16] Чуть поодаль висели три из его «Advertisement Papers», плакатов фирмы-изготовителя мыла «DЕМОТ», сплошь составленных Квиллингом из вырезанных по контуру персонажей картин Тинторетто{25}. Какое-то время они были очень модны, но с тех пор как сама фирма «DЕМОТ» стала использовать их для рекламы мыла, никто не мог понять, как к ним относиться.
Хохгарт оттер меня плечом.
— Мне сказали по секрету, что вы — Мануэль Каминский.
— Да ведь это я тебе еще когда сказал! — выкрикнул я.
— Ну, значит, я не расслышал. — Хохгарт присел, так что его лицо оказалось вровень с лицом Каминского. — Мы должны сфотографироваться!
— А ведь здесь можно устроить его выставку, — предложила стройная женщина. До сих пор она не проронила ни слова. Мы удивленно взглянули на нее.
— Нет, правда, — сказал Манц и обнял ее за бедра. — Нельзя упускать такую возможность. Может быть, сделаем обзор вашего творчества. В следующем номере. Вы же не завтра уезжаете?
— Надеюсь, что завтра, — произнес Каминский.
К нам нетвердыми шагами направился профессор Цабль, по пути опрокинув присевшего на корточки Хохгарта.
— Ну, что там у вас? — повторял он. — Что там у вас? Что? — Он явно напился. Он был седовлас, щеголял искусственным загаром и, как всегда, носил кричаще яркий галстук.
— Закажите мне такси, — сказал Каминский.
— Нет, зачем, — отозвался я. — Мы сейчас уйдем. — Я улыбаясь обвел всех глазами и объявил: — Мануэль устал.
Хохгарт встал, отряхнул штаны и провозгласил:
— Это Мануэль Каминский!
— Завтра я возьму у вас интервью, — напомнил Манц.
— Очень рад, — сказал Цабль и, нетвердо держась на ногах, подошел к Каминскому. — Цабль, профессор эстетики. — Он протиснулся между нами и плюхнулся на свободный стул.
— Может быть, пойдем? — попросил Каминский. Мимо прошла официантка с подносом, я взял бокал вина, выпил залпом и потянулся за следующим.
— Меня верно проинформировали, — начал Цабль, — о том, что вы сын Рихарда Риминга?
— Что-то вроде того, — ответил Каминский. — Извините, а какие мои картины вы знаете?
Цабль по очереди обвел нас глазами. Кадык у него подрагивал.
— Сдаюсь. — Он ощерился в ухмылке. — В сущности, это не моя сфера.
— Уже поздно, — сказал Манц. — Нельзя так терзать вопросами господина профессора.
— Вы — приятель Квиллинга? — спросил Цабль.
— С моей стороны было бы дерзостью это утверждать, — сказал Квиллинг. — Однако верно, что я всегда считал и буду считать себя учеником Мануэля.
— Во всяком случае, вы сумели нас удивить, — съязвил Манц.
— Нет, — возмутился я. — Он пришел сюда со мной!
— Господин Каминский, — сказал Цабль, — можно на следующей неделе пригласить вас на мой семинар?
— По-моему, на следующей неделе его здесь не будет, — заметил Квиллинг. — Мануэль много путешествует.
— Правда? — удивился Манц.
— Он прекрасно со всем справляется, — просвещал присутствующих Квиллинг. — Иногда нас беспокоит состояние его здоровья, но сейчас… — Он на мгновение дотронулся до темной мореной рамы коллажа «Watch it!». — Постучим по дереву!
— Кто-нибудь вызвал такси? — спросил Каминский.
— Мы уже уходим, — заверил его я.
Снова прошла женщина с подносом, я взял еще один бокал.
— Завтра в десять вас устроит? — спросил Манц.
— Зачем? — спросил Каминский.
— А интервью?
— Нет, — сказал Каминский.
— Я его уговорю, — сказал я.
Цабль хотел было встать, невольно схватился за подлокотник и снова в изнеможении сел. Хохгарт вдруг извлек откуда-то фотоаппарат и нажал на кнопку, вспышка отбросила на стену наши тени.
— Я могу позвонить на следующей неделе? — тихо сказал я Манцу. Нужно действовать, пока он не напился до бесчувствия.
— На следующей не получится. — Он прищурился. — Через неделю.
— Хорошо, — сказал я.
На другом конце зала, под тремя неоновыми лампами, которые Квиллинг оклеил газетными вырезками, стояли и о чем-то беседовали Вальрат и Верена Мангольд. Она что-то быстро говорила, он прислонился к стене и печально смотрел в свой бокал. Я взял Каминского под локоть и помог ему встать, Квиллинг немедленно подхватил его с другой стороны. Мы повели его к двери.
— Мы справимся, — процедил я. — Оставьте его в покое!
— Не беспокойтесь, — повторял Квиллинг, — не беспокойтесь!
Манц похлопал меня по плечу, я на секунду отпустил Каминского.
— Лучше все-таки в конце этой недели. В пятницу. Позвони моей секретарше.
— В пятницу, — сказал я, — очень хорошо.
Манц рассеянно кивнул, тоненькая женщина положила голову ему на плечо. Обернувшись, я увидел, что Хохгарт как раз в эту минуту фотографирует Квиллинга и Каминского. Все разговоры смолкли. Я поспешно подхватил Каминского под локоть с другой стороны, но было поздно: Хохгарт их уже снял. Мы пошли дальше, пол, по-моему, был неровный, воздух словно слегка подрагивал. Значит, я все-таки опьянел.
Мы спустились по лестнице. «Осторожно, ступенька!» — повторял Квиллинг при каждом шаге. Я посмотрел на редкие волосы Каминского, правой рукой он крепко сжимал трость. Мы вышли на улицу. Дождь перестал, в лужах расплывались отражения фонарей.