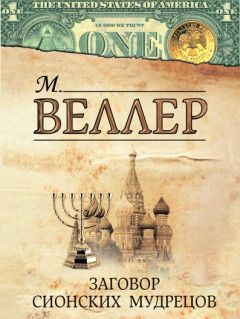Всемогущество начало тяготить, как пресловутый чемодан без ручки: тащить тяжко, бросить жалко…
Валерьянка попробовал ввести для интереса ограничения и препятствия своим возможностям, но самообман с поддавками не прошел: преодолевать искусственные трудности, созданные себе самим, — занятие для идиотов.
— Петр Мефодиевич, а отказаться от всемогущества можно?
— Нельзя.
Учитель-мучитель… Ну, чего еще не было? Пробуксовка…
На одной планете обезьяны посадили людей в зоопарк. По будильнику кровать стряхивала спящего в холодную ванну. Ветчина охотилась на мясников. Девчонки, вечно желающие быть мальчишками, стали ими — различия между мужчинами и женщинами исчезли: ну и физиономии были у некоторых, когда они обнаружили это отсутствие различий!.. Детей не будет? — зато никто не вякает, алиментов не платить, стрессов меньше; а народу и так полно.
21). Он слонялся по ночному Парижу (шпага бьет по ногам) и затевал дуэли, коротая время. Время еле ползло. Мертвый якорь. Непобедимый бретер был прикован к всемогуществу, как каторжник к ядру. Раздраженный неодолимым грузом, он трахнул этим ядром наотмашь.
«Веселый Роджер» застил солнце, и теплые моря похолодели от ужаса: пиратский флот точил клинки. Не масштаб: Валерьянка спихнул Чингиз-хана с белой кошмы и нарек Великим Каганом себя. Пылали и рушились города, выжженная пустыня ложилась за спиной.
От его имени с деревьев падали дятлы. Он ехал на вороном, как ночь, коне, — весь в черном, с золотым мечом. При виде его люди теряли сознание, имущество и жизнь. Зловещий палач следовал за ним — Тристан-Отшельник из «Собора Парижской богоматери».
Прах и пепел. Бич народов — Валерьянка, так его и прозвали.
Черный звездолет «Хана всему» вспарывал космос, и обреченно метались на своих курортных планетах бестолковые красавцы.
22). Зачем он дал себе волю?! Может, вырвать эту страницу? Но выпадет и еще одна — из другой половины тетради: слишком заметно, и бессвязно получится…
Не видно никакого смысла в его последних действиях! Хм…
— Петр Мефодиевич… в чем смысл жизни? — решился Валерьянка.
— Сделать все, что можешь! — захохотал настырный пастырь.
Академию наук мобилизовали искать смысл жизни. Академики рвали седины, валясь с книжных гор. Пожарники заливали пеногонами дымящиеся ЭВМ. Смысл!
Творить добро? Для этого надо, во-первых, знать, что это такое, во-вторых, уметь отличать его от зла, в-третьих, — уметь вовремя остановиться. Хоть с бессмертием: чего ценить жизнь, если от нее все равно не избавишься? Или со Спартаком — а что тогда делать Гарибальди? И Возрождения не будет — чего возрождать-то? Если всюду натворить добра, то в жизни не останется места подвигу, потому что подвиг — когда легче отдать жизнь, чем добиться справедливости. Исчезнет профессия героя — это не простят!
Несостоявшиеся герои всех эпох и народов гнались за Валерьянкой, потрясая мечами и оралами. Бежали полярники, тоскующие без льдов, доктора, разъяренные всеобщим здоровьем, строители, спившиеся без новостроек, — весь бессмертный безработный мир, кипящий ненавистью и местью к нему, своему благодетелю…
А навстречу неслись, смыкая окружение, спортсмены, лишенные рекордов, топыря могучие руки, и красавицы, озверевшие в гареме от одиночества.
— За что?.. — задыхался удирающий Валерьянка. — Я же вам… для вас!.. А если нечаянно… стойте — ведь есть
Четвертое правило всемогущества
Что бы ни делалось — я не виноват.
Камнем, бесчувственным камнем надо быть, чтоб сердце не разбилось людской неблагодарностью!
23). Валерьянка стал камнем.
Тверд и холоден: покой. Все нипочем. Века, тысячелетия.
Когда надоело, он пророс травинкой. Зелененькой такой, мягкой. Чуть корова не сожрала.
Фигушки! Он сам превратился в корову. Во жизнь, ноу проблем: жуй да отрыгивай. Только рога и вымя мешают. И молоко, гм… доить?.. Лучше быть собакой. А если на цепь? Улетим птицей. А совы?
Утек он рекой в океан. Так прожил себе жизней, наверное, семьсот, и…
24). — Заканчивайте, — предупредил Петр Мефодиевич. — Пора.
Ах, кончить бы чуть раньше — на том, как все было хорошо! И пихнула его нелегкая вылезти со своей готовностью: сидел бы тихо. А теперь ерунда какая-то вышла… все под конец испортил.
В тетрадке оставалась одна страница. Хоть у него почерк размашистый, но — сколько успел накатать! Наверно, потому, что не задумывался подолгу, а — без остановки.
Переписать бы… Уж снова-то он не наворотил бы этих глупостей, сначала обдумал бы как следует толком. Вообще нельзя задавать такое сочинение без подготовки. Предупредили бы заранее: обсудить, посоветоваться…
Он перелистал тетрадь в задумчивости. Словно бы раздвоился: один, единый во всех лицах, суетился в созданной им, благоустроенной до идеала (или до ошибки?) и испорченной Вселенной, а второй — как будто рассматривал некую стеклянную банку, внутри которой мельтешили все эти мошки, — эдакий аквариум, где он поставил опыт…
— Всё! — приказал Петр Мефодиевич. — Ошибки проверять не надо.
…и опыт, подошедший к концу, его удручает. И Валерьянка, повинуясь сложному искушению — подгоняемый командой, влекомый этим последним чистым листом, втянувшийся в дело, раздосадованный напоротой чушью: уж либо усугубить ее до конца, либо как-то перечеркнуть, и вообще — играть так уж играть, на всю катушку! — грохнул к чертям эту стеклянную банку, дурацкий аквариум, этот бестолковый созданный им мир, взорвал на фиг вдребезги. Чтоб можно было с чистой совестью считать все мыслимое сделанным, а тетрадь законченной, и следующее сочинение начать в новой.
И в этот самый миг грянул звонок.
25). Валерьянка сложил портфель и взял тетрадь. И растерялся — помертвел: тетрадь была чистой. Как…
Он только мечтал впустую!! Ничего не сделал! Лучше б хоть что-нибудь! Чего боялся?!
И увидел под партой упавшую тетрадь. Уффф… раззява. Он их просто перепутал.
— Урок окончен, — весело объявил Петр Мефодиевич, подравнивая стопку сочинений. — Обнадежен вашей старательностью.
Замешкавшийся Валерьянка сунул ему тетрадь, поспешая за всеми.
— Голубчик, — укоризненно окликнул Петр Мефодиевич, — ты собрался меня обмануть? — И показал раскрытую тетрадь: чистая…
— Я… я писал, — тупо промямлил Валерьянка, не понимая.
— Писал — или только хотел? М?
Наважденье. Сочинение покоилось в портфеле между физикой и литературой: непостижимым образом (от усталости?) он опять перепутал: сдал новую, уготованную для следующих сочинений.
— Извините, — буркнул он, — я нечаянно.
Петр Мефодиевич накрыл тетради своей книжкой и встал со стула.
Тут Валерьянка, себя не понимая (во власти мандража — не то от голода, не то от безумно кольнувшей жалости к своему чудесному миру, своей прекрасной истории и замечательной вселенной), сробел и отчаялся:
— Можно я исправлю!
— Уже нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич. — Времени было достаточно. Как есть — так и должно быть, — добавил он, — это ведь свободная тема.
— Какая же свободная, — закричал Валерьянка, — оно само все вышло — и неправильно! а я хочу иначе!
— Само — значит, правильно, — возразил Петр Мефодиевич. — От вас требовалось не придумать, а ответить; ты и ответил.
— Хоть конец чуть-чуть подправить!
— Конец и вовсе никак нельзя.
— А еще будем такое писать? — с надеждой спросил Валерьянка.
— Одного раза вполне достаточно, — обернулся из дверей Петр Мефодиевич. — Дважды не годится. В других классах — возможно… Ну — иди и не греши.
В раздевалке вопила куча-мала, Валерьянку съездили портфелем, и ликование выкатилось во двор, блестящий лужами и набухающий почками. Гордей загнал гол малышне, Смолякова кинула бутерброд воробьям, Мороз перебежал перед троллейбусом и пошел с Лалаевой.
Книжный закрывался на перерыв, но Валерьянка успел приобрести за пятьдесят семь копеек, сэкономленных на завтраках, гашеную спортивную серию кубинских марок.
— Ботинки мокрые, пальто нараспашку, — приветствовала его Зинка. — Не смей шарить в холодильнике, я грею обед!
Холодильник был набит по случаю близящегося Мая, Валерьянка сцапал холодную котлету и быстро сунул палец в банку с медом, стоящую между шоколадным тортом и ананасом.
Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения — он был просто добрым. Его любили, глядя иногда как на идиота и заботливо. И принимали услуги.
Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.
У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, — но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.