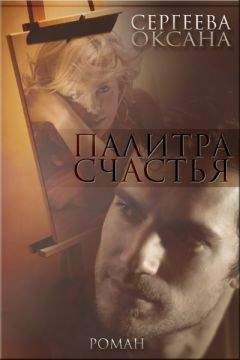— Трюмить, что ли, будут? — шепчет Димка.
— Трюмить — это еще ерунда, — отвечает Серый, жуя колбасу. — Бывает и хуже. Ты ж теперь по закону ответчик — пообещал, а не делаешь. Взял, да не отдаешь. Теперь ты в ответе с головой.
Он подмигивает Димке и, дернув головой, бросает челочку на глаз, так, как он один умеет.
— Ну, да ты дятел сообразительный, — говорит Серый. — И меня ты не хочешь подвести, верно? Если ты со мной крепко закорешуешь, Студент, житуха у тебя будет в норме. Найдем хату получше…
Он смолкаем и, долго жует бутерброд, поглощенный этим занятием и о чем-то раздумывая.
— Не кемаришь еще, Студент? Да где тут кемарить Димке? В голове круговерть мыслей и ни капельки сна. Серый похохатывает:
— Я тебе откровенно расскажу… Вот насчет мужиков, «оленей» то есть… ну, словом, людей. Ты все сомневаешься — как бы кого-то не подвести. Кого? Это воспитание в тебе газетное, что ли: люди, мол, люди, важное дело. А я откровенно. Я, знаешь, удочничал одно время. Слышал про удочников?
— Нет…
— Ну, занятие, в общем. Я, сам знаешь, сирота, матери не помню, — Серый всхлипывает и скрежещет зубами, — детство тяжелое, подался удочничать. Считается, легкое дело, пацанье, уважающий себя человек не пойдет. Ну, делаешь такую вроде удочку — палочка с леской или ниткой, на конце только не крючок, а заман такой — тряпочка или там дощечка со смолой или еще чем липким. Ну, ходишь под окнами в бараках, забрасываешь, если открыто… или в форточку. На столе часто чего-нибудь лежит — трехрублевка там, червончик, иной раз гаечка — колечко, значит, или часики. Тут надо быстро и точно — это тебе не рыбка, могут и ребра переломать. В общем, дело техники. Интересно: ни разу не влямзился. Даже и мысли ни у кого не было, что сперли из окна, а начиналась драка с соседями или там мужа с женой: мол, ты взял! Друг друга лупили. А я себе удил, пока не надоело такое легкое занятие. Авторитета от него нет, вот что. А людей я понял: они все друг друга подозревают и готовы отфигачить хоть отца родного, если червонца на столе нет. А ты говоришь… Хоть ты и ученый, а жизни не знаешь. Держись ближе, я эту науку как по букварю читаю. Люди!… Дерьмо это все. Изнутри. А снаружи каждый мазу держит, само собой. Вот так, Студент. Слушай… Мотай.
Безнадежным зимним утром бредет Димка по улице — и почему-то все дальше и дальше удаляется от своего родного вуза. Город кажется ему приплюснутым, бледненьким, с трудом продирающим глаза после сна. Куда делась радость пробуждения, веселый студенческий галоп по расчищенным в снегу дорожкам, заливистые перезвоны трамваев, перекличка гудков? Сдавленный шепот — вот голос города. Да, может, каждого гнетет здесь преступная, безысходная тайна? Димка оказывается на набережной. Оттепели подточили лед, и река, согретая дыханием города, подземными притоками, изливающимися из отверстий в каменных стенках берегов, темнеет разводьями. Струи неясного цвета выбегают из-под ледяной закраины. Вода тяжела, увесиста, несет на себе нефтяные пятна, какой-то мусор и, пробежав от края до края полыньи, исчезает под кромкой грязного льда. Димка смотрит вниз, на этот неостановимый и безразличный ко всему бег высвободившейся воды. А если — скользнуть вниз, по наклонной гранитной стенке, слиться с этой темной массой, раствориться в ней и исчезнуть под ледяной закраиной?.Никто даже и не заметит. Все будет двигаться, шуметь, жить как и прежде. Неодолимые переживания и мучения поглотятся рекой — и без всяких перемен для оставшихся. Все, что так значимо, неразрешимо для Димки — ничто в течении реки, в людской сутолоке…
Даже обидно. Никогда прежде Димка не задумывался над законами жизни человеческого муравейника, он нес перед собой свое «я» как стеклышко, сквозь которое только и был виден мир, и, наверно, стало ему казаться, что стеклышко, которое он держит в руке, сам мир и есть. А вот теперь взглянул вокруг отбросив цветную прозрачную линзочку, и увидел все в подлинном свете. Мир огромен, холоден, сложен, а стеклышко обманывало, собирая в себе лучики и цвета, исходящие из гигантского пространства жизни. Но не может быть, чтобы не было смысла в Димкином существовании среди этого пространства. Что-то же он должен нести, не только обманное стеклышко. Для чего-то нужны Димкины переживания, сомнения, даже безысходность эта?
Еще не так давно, когда бабка учила его шептать слова молитв, учила радоваться каждому пробуждающемуся дню, каждому куску хлеба (нельзя было съесть, не поблагодарив того, кто посылает тебе этот кусок и возможность насладиться едой), когда следовало вспомнить о прошедшем дне на вечерней заре, поспасибовать и за него, Димкина жизнь была полной смысла. Он знал, что некто, кого он и представить себе не мог и не пытался, зачем-то вдохнул в него, Димку, жизнь и с тех пор следит за ним, не дает сбиться с пути, и если и посылает страдания или неприятности (и какими же они были незначительными, неважными, мелкими в детстве), то в этом тоже есть смысл: Димка должен перестрадать, очиститься, стать лучше, выше; ведь и тот, кто следит за ним, тоже страдал и мучился, только в тысячу раз больше, сильнее. Димкино существование было исполнено значения и каждодневной безотчетной радости оттого, что он не одинок, что маленькая его душа приобщена к чему-то чрезвычайно важному, к общей вечной душе. Но потом вера потихоньку ушла, расплылась, молитвы подзабылись, и Димкины беды и радости — незаметно, оказывается, для него самого — стали бедами и радостями муравья или червяка. Вот теперь-то он вдруг осознал это. И как соблазнительна поэтому река: никакого греха, никаких последствий — просто скользнул вниз по заманчиво наклоненному граниту, и одним муравьишкой меньше.
Сколько сразу забот сваливается с него. И эти беспокойства, и мысли о предстоящем самоотчете, когда надо будет или врать, или говорить убийственную правду о себе… Как ему сказать на самоотчете о рулетке, о долге Чекарю, о предстоящем грабеже квартиры Евгения Георгиевича? И весь его самоотчет, и вся его ложь, вся его запутанность растворятся в воде — будто и не было ничего.
Нет, обидно, просто обидно, до чего мала и невесома его жизнь. До чего, оказывается, никому не нужна. Вот как не нужна никому эта старая газета, выброшенная течением из-подо льда и вновь исчезнувшая под грязно-серым ледовым настилом. Да, ну, а как же быть с Обоянью, с этими раненными на соломенной подстилке, которым он читал стихи, с их рассказами, жалобами, стонами, как быть со всем виденным и пережитым — ведь все это в нем, и оно живо, пока он жив. Он, Димка, часть какой-то общей, непонятной жизни, часть огромного человеческого переживания, мучения… и радости. Может быть, это и есть душа? И все это можно утопить в грязной воде — то, что доверено ему теми, с кем он встречался, чьи откровения он слышал? И тогда это тоже будет измена, предательство. И выходит, просто так, беззвучно для собственной и чужой совести не уйти? Не предав — не уйти? Димка идет по набережной, потом незаметно оказывается на огромном, выгнувшемся над рекой мосту, где позванивают трамваи, пронося рядом тупые железные пронумерованные морды, одного толчка которых достаточно, чтобы покончить с Димкиными сомнениями и размышлениями; но это еще страшнее, еще чудовищнее, чем река.
Дальше, за многоэтажным мрачным домом, похожим на огромный город, с собственным гастрономом внизу, открываются яркие рекламные щиты известного всей столице кинотеатра — но эти щиты, которым Димка всегда по-ребячьи радовался, сейчас вовсе безразличны и напоминают о жизни вчерашней, из которой Димка выпал. И еще один небольшой мостик через канал, и снова улицы, и дома становятся все меньше и всё неказистее, и все больше между ними всяческих шалманов и «щелей», где и днем людно, и это все чужое, чужое, ненужное Димке. Какой огромный город, и сколько же в нем малых городков, и сколько в каждом из них еще более малых, и сколько в самом малом жизней… Идут заборы, склады, халупы, пустыри, мусорки, дома. Снова река — и как это она, пробежав под мостом, как-то вывернулась и заманчиво легла к ногам Димки этими жирными разводьями, черными точками ворон, выжидающих добычу у ледяных закраин? Дальше, дальше!… От реки!
Димка не понимает, куда он идет и зачем, пока не оказывается в каком-то заводском районе, где — куда ни глянь — всюду трубы, и совсем другое здесь движение, и люди иные, все спешат куда-то по неотложному делу, и почти на всех ватники или шинели и на головах серые солдатские шапчонки или кепки. Вереница новеньких грузовиков, без деревянных кузовов похожих на насекомых с оборванными крыльями, преграждает Димке путь. Они словно облиты краской. Да это же он возле ЗИСа оказался, Димка, возле Гвоздева завода. Но где он, завод? Улица широка, и много в ней промышленных пустоглазых зданий, и много ворот, и бесконечны серые заборы, и посверкивают масляной радугой черные лужи. Но как отыскать здесь собственно ЗИС? Уж если он здесь оказался, Димка, — ой, случайно ли? — почему не попробовать найти Гвоздя? Не жаловаться ему, нет, а просто так повидать этого уверенного в себе, налитого силой и не знающего сомнений мужика…