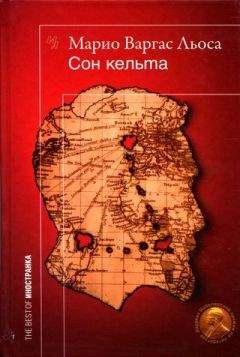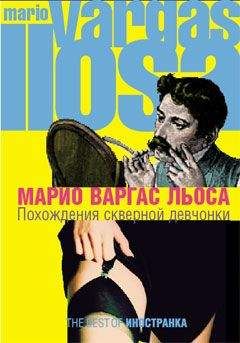Он устыдился, почувствовав, что на глаза набежали слезы. Закурил сигарету и, затянувшись, выдохнул дым в сторону моря, на котором уже переливались и приплясывали лунные блики. Ветра больше не было. Очень редко вдали вдруг показывались автомобильные фары, двигавшиеся из Сьюдад-Трухильо. И тогда все четверо выпрямлялись, вытягивали шеи и напряженно вглядывались в темноту, но каждый раз, когда машина оказывалась метрах в двадцати или тридцати от них, становилось ясно, что это — не «Шевроле», и они снова разочарованно расслаблялись.
Лучше всех умел сдерживать эмоции Имберт. Он всегда был неразговорчив, а в последние годы, с тех пор, как идея убить Трухильо овладела им и, как солитер, высасывала из него энергию, он стал еще более немногословен. У него никогда не было много друзей, а в последние месяцы его жизнь ограничивалась конторой «Мескла-Листы», домом и ежедневными совещаниями с Эстрельей Садкалой и лейтенантом Гарсией Герреро. После смерти сестер Мирабаль собрания подпольщиков практически прекратились. Репрессии выкосили движение «14 Июня». Те, кого они обошли, укрылись в семейной жизни, стараясь быть совсем незаметными. Время от времени он снова тоскливо задавал себе вопрос: «Почему меня не арестовали?» И от неясности чувствовал себя скверно, как будто был в чем-то виноват, как будто был ответственен за страдания тех, кто находился в руках Джонни Аббеса, в то время как он продолжал наслаждаться свободой.
Свободой весьма относительной, разумеется. С тех пор как он осознал, при каком режиме живет, какому правительству служил с младых ногтей и продолжает служить — а как же, ведь он был управляющим одной из фабрик, принадлежавших Клану, — он постоянно чувствовал себя так, словно был заключен в тюрьму. И, быть может, потому, что ему хотелось избавиться от ощущения, будто контролируется каждый его шаг, каждое движение, с такой силой овладела им идея уничтожить Трухильо. Разочарование режимом наступило у него не сразу, а медленно, втайне вызревало и началось задолго до того, как у его брата Сегундо возникли конфликты на почве политики, хотя когда-то он был еще большим трухилистом, чем Тони. А кто из его окружения не был им двадцать, двадцать пять лет назад? Все считали Козла спасителем Родины: он покончил с междоусобными войнами, с опасностью нового гаитянского нашествия, положил конец унизительной зависимости от Соединенных Штагов, которые контролировали таможни, препятствовали появлению национальной, доминиканской монеты и даже утверждали бюджет страны, и, к добру или не к добру, привел в правительство самые светлые головы страны. Что значило на этом фоне то, что Трухильо имел всех женщин, которых хотел? Или что он подминал под себя в бессчетном множестве заводы и фабрики, земли и скот? Разве он не приумножал богатство страны? Не дал доминиканцам самые могучие на Карибах вооруженные сипы? Тони Имберт на протяжении двадцати лет своей жизни отстаивал такую точку зрения. И от этого теперь ему было особенно тошно.
Он уже не помнил, как это началось, как возникли первые сомнения, догадки, несогласия, породившие вопрос: а уж так ли на самом деле все хорошо или за этим фасадом — страны, которая под строгим, но вдохновенным руководством из ряда вон выходящего государственного деятеля движется вперед семимильными шагами, — скрывается мрачная картина погубленных людских жизней, униженных и обманутых, а пропагандой и насилием на престол возведена небывалая ложь. И так каля за каплей, постоянно и беспрерывно подтачивался его трухилизм. К концу губернаторства в Пуэрта-Плате он в глубине души уже не был трухилистом и твердо знал, что режим этот — диктаторский и коррумпированный. Он никому этого не говорил, даже Гуарине. Для всех он по-прежнему оставался трухилистом, потому что, хотя его брат Сегундо и отправился в добровольную ссылку в Пуэрто-Рико, режим, желая показать свое великодушие, продолжал назначать Антонио на ответственные посты и даже — возможно ли большее доказательство доверия? — на предприятия, принадлежащие семье Трухильо.
Эта многолетняя, тяжкая необходимость думать одно, а ежедневно делать противоположное и вынесла, помимо его сознания, смертный приговор Трухильо; он был убежден, что, пока Трухильо жив, он, как и многие доминиканцы, обречен на это ужасное раздвоение и разлад с самим собой: ежеминутно врать себе и обманывать других, жить двойной жизнью, на людях лгать, а про себя таить запретную правду.
Решение стало для него благом, он воспрянул духом. Жизнь перестала быть душной, двойной, коль скоро можно с кем-то поделиться своими истинными мыслями и чувствами. А дружба с Сальвадором Эстрельей Садкалой была словно послана ему небом. Турку он мог сказать все и совершенно откровенно, такой нравственной цельности и честности, с какой тот пытался сочетать свои поступки с религиозными убеждениями, Тони не видел ни в ком. Турок стал для него не только другом, но и примером.
Вскоре благодаря своему двоюродному брату Мончо Имберт стал ходить на собрания подпольщиков. Он покидал их собрания с ощущением, что эти юноши и девушки, хотя и рискуют своей свободой, будущим, жизнью, тем не менее еще не знают, как следует бороться с Трухильо; и все же два часа, проведенные с ними после сложных поисков неизвестного дома, каждый раз — другого, долгого блуждания следом за посланцем, которого приходилось опознавать при помощи пароля, — все это давало жизненный импульс, облегчало совесть, наполняло жизнь смыслом.
Гуарина было ошеломлена, когда — чтобы неприятности не застали ее врасплох — Тони наконец признался ей, что хотя с виду это и не так, но он уже не сторонник Трухильо, а даже ведет тайную работу против правительства. Она не пыталась его переубеждать. И не спросила, что будет с их дочерью Лесли, если его арестуют и приговорят к тридцати годам тюрьмы, как Сегундо, или того хуже — убьют.
Ни жена, ни дочь ничего не знали о сегодняшней ночи. Они считали, что он у Турка, играет в карты. Что будет с ними, если задуманное не получится?
— Ты доверяешь генералу Роману? — поспешил он спросить, чтобы заставить себя думать о другом. — Он на самом деле наш? Несмотря на то, что женат на кровной племяннице Трухильо и приходится шурином генералам Хосе и Вирхилио Гарсии Трухильо, любимым племянникам Хозяина?
— Если бы он не был с нами, мы все уже сидели бы в Сороковой, — сказал Антонио де-ла-Маса. — Генерал с нами при одном условии: он должен своими глазами увидеть мертвого Трухильо.
— Верится с трудом, — пробормотал Тони. — Что выигрывает он, военный министр? Наоборот, все теряет.
— Он ненавидит Трухильо больше, чем ты и я, — пояснил де-ла-Маса. — Как многие из властной элиты. Трухилизм — это карточный домик, он посыплется разом. Пупо говорил со многими военными, они только и ждут приказа. Он отдаст приказ, и назавтра мы проснемся в другой стране.
— Если сегодня Козел приедет, — проворчал с заднего сиденья Эстрельа Садкала.
— Приедет, Турок, приедет, — еще раз повторил лейтенант.
Антонио Имберт снова погрузился в размышления. Проснется ли завтра его страна свободной? Он желал этого всем своим существом, но даже сейчас, за несколько минут до того, что должно было произойти, ему трудно было в это поверить. Сколько людей входило в заговор помимо генерала Романа? Он никогда не пытался этого узнать. Знал четверых или пятерых, но их было гораздо больше. Лучше не знать. Он всегда считал, что заговорщик должен знать минимум, чтобы не подвергать риску операцию. Он с интересом выслушал то, что рассказал Антонио де-ла-Маса о главе вооруженных сил: он готов взять власть, если тиран будет уничтожен. Таким образом, родственники Козла и главные его сторонники будут схвачены или убиты, прежде чем успеют развязать репрессии. Хорошо еще, что оба его сына, Рамфис и Радамес, сидят в Париже. Со сколькими же людьми успел поговорить Антонио де-ла-Маса? В последние месяцы во время бесконечных совещаний, когда снова и снова обговаривался план, у Антонио, случалось, проскальзывали намеки, упоминания, слова, наводившие на мысль, что в заговоре очень много людей. Тони в предосторожностях дошел до крайности: хотел заткнуть рот Сальвадору, когда он однажды с возмущением стал рассказывать, как они с Антонио де-ла-Ма-сой на собрании в доме у генерала Хуана Томаса Диаса поспорили с группой заговорщиков, недовольных тем, что Имберта подключили к заговору. Они считали его ненадежным, вспоминали, что в прошлом он был ярым сторонником Трухильо, и припомнили его телеграмму к Трухильо с предложением спалить Пуэрто-Плату. («Она будет преследовать меня до смерти и после смерти — тоже», — подумал он.) Турок с Антонио возражали, говорили, что они ручаются за Тони головой, но Тони перебил Сальвадора:
— Я не хочу этого слушать, Турок. Что ни говори, но почему те, кто мало меня знают, должны мне верить? Это правда: всю жизнь я так или иначе работал на Трухильо.