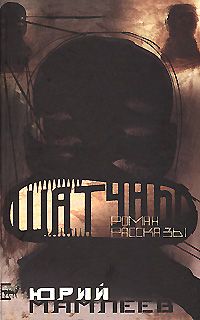Больше они не решились куда-либо ехать…
Уже много воды утекло с тех пор, как Федор хотел уничтожить «метафизических» в Падовском гнезде.
Опустел дом в Лебедином. Кто-то даже съел поганую кошку. Лишь старик Михей со своим пустым местом и девочка Мила — из обитателей Сонновского гнезда — пришли видимо, в человеческом смысле, к счастливому концу: они поженились. Хотя разумеется без официального признания. Это был брак, в котором не было ничего. Посторонние часто видели, как дедушка Михей, обосновавшийся в небольшом подмосковном городишке, подальше от Лебединого, выводит гулять за ручку свою женушку-внучку девочку Милу. И даже по-своему целует ее. Улыбаясь потом — белым, исчезающим лицом— в какие-нибудь кусты.
А деда Колю супруги прогнали в шею. Совсем обезумев, дед рыщет по всей Рассеи, иногда — в черном, похмельном бреду — вспоминая Лебединое, Клавушу, Падова и поганую кошку. «Не ко двору, не ко двору я пришелся ни там, ни Михею с Милочкой, — иногда выговаривает он, играя сам с собой в домино. — Мало во мне… етого… безумия». Только порой промелькнут на дне слезящихся глаз, радостно обращенных на бутыль с водкой, образы погибших детей: помоечной Лидоньки и себяеда Петеньки… Далеко от Лебединого в новом одиноком гнезде обосновалась и Клавенька. «Раздувается она, раздувается… на весь мир. Скоро все вытеснит», — испуганно, расширив глаза, рассказывал о ней Игорек, случайно оказавшийся около этого гнезда. Сам «белокурый садистик» уже давно бросил все «измывательства»; единственно, что теперь его интересует — это борьба со счастьем; с ним — с человеческим, общелюбящим счастьем — борется он упорно, угрюмо и исступленно, на долгое время исчезая по каким-то магическим уголкам, закоулкам.
Свое окончательное определение нашел и Алеша Христофоров; но сначала он долго и надрывно, используя все имеющуюся информацию, искал куро-трупа, т. е. отца своего. Однако ж куро-трупа простыл и дух. Христофоров порвал все связи с «метафизическими», взывал к Богу, молился — все напрасно. Теперь он живет один, в маленьком, деревянном домике, имея в прислужницах длинную, худощавую женщину. Он целиком ушел в древнее христианство и больше знать ничего не хочет; почти не выходит на улицу; скорее даже не в древнее христианство, а в чистую обрядовость, особенно в бесконечные и затаенные детали ее, уже давно позабытые. Он пугает священников своим знанием христианства; поэтому они избегают общения с ним. Алеша считает их «декадентами» и по-прежнему полу-блаженствует в своем служении…
Как буря пронеслась религия Я по душам «метафизических»:
Анны, Ремина и Падова. Долго не могли забыть они этих ночей в Падовском гнезде, этих взрывов веры в себя, этих холодеющих полетов в бесконечность — долго это состояние оставалось вместе с ними.
Но вскоре черная молния стала куда-то уходить, и все остались наедине со своими прежними комплексами и сомнениями.
Особенно резко стал уходить в прежнее состояние Падов; «Не по мне все это положительное, — бормотал он, — хотя может быть и лучше по сравнению с другим… Что ж, по этой вере я и руки на себя наложить не могу; или, ежели я захочу — а я может быть этого втайне хочу — уничтожить себя реально, как духа, допустим в форме оккультного самоубийства — и этого нельзя; ведь «я» — абсолют, высшая ценность; а может я все хочу уничтожить — и «я» и абсолют и высшую ценность и все переходы в засознание и вообще все… Хе-хе…»
Однако ж Ремин на этот раз не шел по этому пути; похоже было на то, что Геннадий все больше и больше «входил» в религию «Я»; даже встречаться с Падовым он стал значительно реже, пропадая где-то около глубевцев или в одиночестве. И грозился написать цикл стихов о религии Я.
Аннуля металась между верой в «Я» и своим незабвенным. Все это смешалось у нее с давним сексуальным мракобесием и каким-то сюрреальным гностицизмом. Достаточно сказать, что потустороннюю жизнь она представляла все чудовищней и чудовищней… И по-женски истерически устраивала невиданные оргии, с чтением Достоевского, во время сеансов тайной магии. Особенно она неиствовала и хохотала при вызове некоторых «душ» и оболочек…
Однажды, поздней осенью, когда ветер рвал и метал листья, образуя в пространстве провалы, около одинокого, пригородного шоссе, в канаве, лежал трезвый молодой мужчина в истерзанном костюме и тихонько выл. То был Анатолий Падов.
Перед этим он долго хохотал в своей комнате, глядя на себя в зеркало. Сам себе казался чудом. И видел: что-то должно случиться. И вдруг почувствовал свою мысль… голой, как будто душа обнажилась и грозно выступила сквозь видимость тела. Не помня как, очутился в канаве. Это ощущение голой мысли не проходило, точно он мог до нее дотронуться, и обычный покров, делающий мышление привычным, был сдернут. Он мог видеть обнаженное поле своего «я». Его особенно поразило, что чистая мысль бьется о самую себя, как бы ощущая и оценивая свое существование, и еще, что непрерывно задает себе вопросы: кто я? откуда?
Самое ужасное было то, что эти вонзающиеся в мысль вопросы, отскакивали от нее, безответные, именно потому, что задавался вопрос и эти порывы не выходили за пределы реальности. Эта странность ощущения самосознания, эта раскрытость самого откровенного, эта безответность «главных вопросов» — извергали из Падова истерический крик. Он весь, валяющийся в канаве, превратился в этот жуткий и недоумевающий от самого себя крик.
Мысль билась о мысль, «я» сталкивалась с» я». Обнаженное самосознание выло, словно не зная, откуда оно, и Падова лихорадило от чувства странности его голого, вопросительного существования; обнаженная мысль словно ломалась; она была бешено реальным и в то же время чудовищно хрупким.
Внезапно Толя почувствовал, похолодев: то, что составляет «я» вот-вот рухнет; «все скоро рухнет и что будет потом», — прошептал он.
Падов встал на ноги и, шатаясь, вышел из канавы… Так и пошел вперед, с выпученными глазами, по одинокому шоссе навстречу скрытому миру, о котором нельзя даже задавать вопросов…
Так Соннов называл теперь Падова и его друзей, восприняв термин у Анны. (Примеч. Ю.М.)
Присматривать за куро-трупом взялась соседка-старушка Мавка и ее сын, а Падов должен был срочно разыскивать куда-то пропавшего Алешу, чтоб он приехал в Лебединое и решил, что делать с «отцом». (Примеч. Ю.М.)
Индивидуальный Мессия, т. е. Мессия, приходящий только к одному человеку и только ради него. (Примеч. Ю.М.)