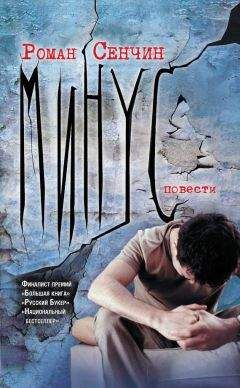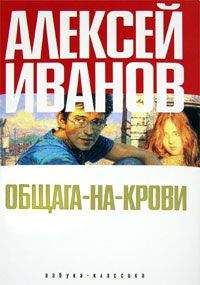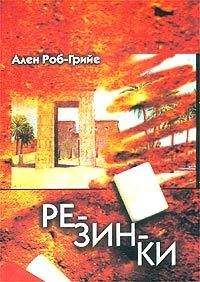— Весной планирую поставить штук десять. Пять, скажем, в теплице, пять — на улице, на солнцепеке. Эх, надо ведь как-нибудь из кризиса выбираться. — Отец поднимается, выходит на кухню, обращается к маме: — Выберемся, как думаешь, мама Галя?
— Надеюсь… — В ее голосе слышится больше усталости, скрытой досады, чем надежды, и словно в подтверждение этому начинается очередной приступ кашля.
Бодрость и одухотворенность отца исчезли, морщины на лице стали глубже, сам он как бы уменьшился ростом… Постоял, взглянул на часы, скомкал бумажку с чертежом вертикальной гряды.
— Что ж, — вздыхает, — двенадцатый час. Надо идти животину кормить. Ветер, видно, не стихнет, а они тоже — живые ведь…
Привез в общагу шторы, что когда-то висели в нашей кызылской квартире у меня в комнате. Тяжелые, золотисто-зеленые, они, как надежные щиты, оберегали меня от улицы с ее гулом машин, глазами окон соседнего дома, наглого солнца, страшной ночной темноты.
Теперь я вешаю эти шторы на окно в своем общажном жилье. Старую, почерневшую от пыли и сигаретного дыма тюлевую тряпицу запихнул под кровать Лехи.
Купил в магазине «Электра» нужную детальку и за полчаса наладил магнитофон. Под песни Гребенщикова помыл пол, вытер пыль с небогатой мебели, не жалея, выкинул всякую ненужную мне мелочовку, скопившиеся в шкафу рваные пакеты, консервные банки, бутылки. Найденным в умывальнике черенком швабры снял из углов гирлянды превратившейся в паутину пыли.
Открыл форточку и, пока комната проветривалась, сходил в душ. Тщательно, с удовольствием вымылся, соскреб щетину с лица… Обсохнув, побывал в ближайшей парикмахерской, подстригся под канадку за шестнадцать рублей.
С деньгами — порядок. Родители выдали триста, этого, если не пить, хватит надолго. Тем более что перед карантином получил двадцать талонов. Они, целые и невредимые, лежат под обложкой паспорта. И продуктов полным-полно. Можно жить.
Да, давненько, давненько я не бывал в таком приподнятом настроении. В меня словно вставили новую батарейку, и теперь я все смогу. Немного усилий, немного энергии и желания — и любое дело будет сделано. Любые преграды падут… Я впервые за долгое время свободен и крепок, меня не сковывает ни сосед-дебил (его теперь просто нет), ни отсутствие денег, ни слабость похмелья; впереди несколько выходных дней. Может, поразведаю насчет сто2ящей работенки. Как говорила «мама» Павлика Ксюха: под лежачий камень вода не течет. Надо действовать, надо искать, не так глупо, конечно, как эти горе-налетчики, но плесневеть тоже нельзя.
Походить, например, по Торговому, поспрашивать у ребят, не нужен ли им помощник, экспедитор там или кто-нибудь в этом роде, вдруг повезет. Или снова группу собрать, растормошить Шолина, он хороший ведь барабанщик, петь, естественно, не мои старые анархические агитки, а сочинить что-нибудь попопсовей. Под «Агату Кристи» или под «Сплин». В Абакане «живая» дискотека есть, с группами, по местному ТВ музыкалка выходит… Да нет, это все вряд ли — вряд ли Шолин растормошится, вряд ли я новые песенки сочиню… Или попытаться в абаканский театр устроиться, там зарплата выше, и ее хоть «катановками», но выдают, говорят, почти без задержек. Можно поучиться, стать осветителем, а если получится — и в актеры затесаться. С молодыми парнями у них проблемы…
Пожарил мяса. Целую сковородку, с лучком. Питаться нужно хорошо, если хочешь активной жизни… Открываю литровую баночку с помидорами «виноградная лоза», ее положила мне мама на день рождения, если выпадет его отмечать здесь. До дня рождения еще с полмесяца, и не известно, что там будет в дальнейшем. Да и что такое календарный день рождения? Просто формальность, циферка на бумажке. Нет, настоящий праздник у меня сегодня, сегодня мне исполнилось двадцать пять лет. Позади четверть века детской игры, ошибок, робкой подготовки к взрослости. А теперь пора наконец-то всерьез браться за ум.
Ем не спеша, смакуя, именно ем, а не закусываю. Как же это приятно! Вкус пищи не отравлен водочным духом, не заслонен ее жжением. Все внимание на саму еду, а не на выпивку.
Немного портит настроение обстановка в комнате. Убого, конечно, спору нет. Те же обои… Обесцветились от старости, кое-где по швам отклеились и загнулись. Пора бы заменить новыми. Видел сегодня в хозяйственном такие нежно-розовые, с голубыми цветочками. Неплохая расцветка…
Но вечно найдется причина, чтоб помешать, разрушить, свести на нет достигнутое огромным трудом. Вот я воскресал, поднимался из омута беспрерывного полусна-полубреда, я, казалось, победил свою гибель, вычистил гниль; я был уверен — дерьмо позади… Да, внутри себя можно мечтать и решать сколько угодно, можно пришить себе крылья и поверить, что умеешь летать, но есть еще и внешний мир. Только высунься — он тебе все объяснит. Он тебе как следует надает по башке, чтоб не обольщался.
Кафельная коробка бывшей кухни, в пяти шагах дальше по коридору — умывалка, там раковина, вода, там можно помыть посуду. Почему сначала эта чертова бывшая кухня, а не умывалка? Раньше я не задавался таким вопросом, раньше я ждал от тусклой, заплеванной, похожей на обмывочную в морге коробки тепла и чуть ли не счастья. И когда обнаруживал на подоконнике девочку с золотисто-каштановыми волосами, застывал и как дурак по полчаса ждал — вот сейчас, сейчас она повернет ко мне свое личико, улыбнется, поманит к себе. Я подойду, обниму ее, вдохну запах ее волос. И два измученных одиночеством сердца соединятся. И наступит долгожданное счастье.
Сегодня я не хотел ее, ее лица, волос, запаха, я давно перегорел, шагнул намного дальше, я нашел путь дальше по жизни и без нее. Я просто нес мыть посуду… Оглянулся по привычке, механически. Трудно сразу отучиться от того, что делал чуть ли не каждый день. Шея поворачивается сама… Да, и я посмотрел…
Она стоит лицом к окну, руки сжаты в кулаки, уперты в подоконник. Всматривается в заоконную черноту, плеерных «таблеток» в ушах нет. Тихо… Ее волосы, кажется, стали тусклее (или это от малосвечевой, мутной лампочки?), в них меньше золота, и они как-то странно быстро удлинились — были чуть ниже плеч, а теперь по пояс… Она стала выше, она, оказывается, почти одного роста со мной, и не такая тонкая, как мне представлялось. Но это она, она. Просто давно не видел, и воображение успело сделать ее слегка иной. Лучше или хуже — не важно. Все равно она та единственная, кто мне поможет, кому я помогу. Я оторву ее взгляд от окна, уведу в свою чистую комнату. Я ее больше не потеряю.
Ее спина дрогнула, поймав мои мысли. Сейчас она обернется, наконец-то она обернется…
— Вы что?.. — сухой, скребущий голос, не ее голос, у нее должен быть другой, совсем другой.
Конечно же — не она. Это женщина лет тридцати пяти с опухшим, помидорного цвета лицом. Под бледными, будто без зрачков, глазами темные, морщинистые мешки.
— Извините, — растерянно бормочу. — Я тут вот…
— Вы знакомы с ней?.. С Мариной?
— А?
Женщина дернулась, и — снова спина, затылок, снова кулаки уперты в козырек подоконника.
— Марина? — я стал догадываться и смелеть. — Она здесь все сидела, да?
Что-то страшное и интересное сейчас мне откроется. Ответа жду сильнее, чем ждал встречи с глазами той девочки.
— Так вы ее знали? — опять сухой, как наждачкой скребущий голос.
— Да. Я тут рядом живу… А что?
Обеими руками держу тарелки, слушаю, как в груди женщины набухает, мчится на волю перезрелый комок рыданий…
Мы в комнате. Комната по размерам один в один напоминает мою, только намного уютней обставлена. Почти как в квартире. Сразу видно — хозяйки здесь женщины.
Множество разных приятных для глаз безделушек, пахнет духами, кремами, на стенах плотно одна к другой — фотографии из журналов. Поп-звезды, актеры, модели… Повсюду, но это не создает беспорядка, мягкие зверюшки, куколки. Много места занимает громоздкий, по виду старинный трельяж — зеркало одной створки отсутствует, вместо него, прикрытая картинками, темно-коричневая фанерина.
Комнату невозможно не рассматривать, здесь столько притягивающих мелочей, созданных единственно для того, чтоб ими любоваться. И я поминутно перевожу взгляд с изуродованного бедой лица Ольги Борисовны (матери той девочки с подоконника) и путешествую по стенам, по мебели, глазами трогаю плюшевых мишек и мышек, вазочки, кружева, невольно перестаю слушать. Но, опомнившись, напрягаюсь, слежу за шевелящимися, дрожащими губами женщины.
— Мы… мы здесь совсем одни. На что надеялись? О-ох… Нет, там было совсем… здесь мы хотя бы не голодали…
Сидим за столом друг напротив друга. На клеенке с аппетитными кремовыми цветами бутылка «Монастырской избы», два хрустальных бокальчика, сложенный вчетверо лист бумаги. Ольга Борисовна левой рукой подпирает голову, смотрит в клеенку, в правой у нее нераскуренная сигарета.