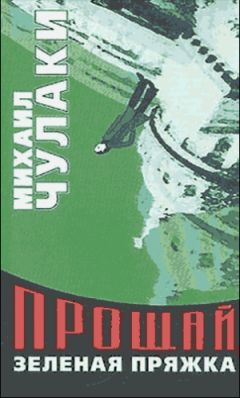— Вчера приходила мама.
— Да? Ну и как она вас находит?
— Хорошо. Она очень вам благодарна.
Это Вера выдумала, никакой благодарности мама не высказывала, мама считала совершенно естественным все, что делается здесь для Веры, и только без конца ужасалась величиной палаты, теснотой в отделении. А Вера уже привыкла, и ей все не казалось ужасным. А когда мама стала рассказывать про свои хлопоты в институте Бехтерева, которые вот-вот придут к успешному завершению, и ее доченьку, ее Колокольчика возьмут туда, Вера по-настоящему испугалась и очень резко сказала, что будет долечиваться только здесь! Мама занервничала, стала говорить, что Вера ничего не понимает, а Вера почти закричала, что это мама ничего не понимает, что здесь у нее замечательный врач, который ее хорошо знает, и она не согласна менять врача. Тут мама кощунственно ответила, что здешние врачи — так себе, и Виталий Сергеевич врач — так себе, еще молодой и мало понимает, а в Институте Бехтерева многих больных ведут кандидаты паук, а профессор смотрит каждую неделю! И тут они совсем поссорились… Вера поколебалась, рассказывать ли это Виталию Сергеевичу, вдруг огорчится или обидится, если рассказать? Но очень хотелось, чтобы он узнал, как она ему доверяет, и она сказала:
— Мама сказала, что меня могут взять в институт Бехтерева, а я ответила, что согласна до конца лечиться только у вас. Категорически ответила!
И она почувствовала, что ему приятно.
— Но там бы вы лежали в маленькой палате. И вообще там светло, цветы, решеток этих нет — современная обстановка.
— Ну и что? Я же понимаю, для чего решетки! Я сама была такая, что и хорошо, что решетки! Еще бы выскочила сдуру.
— Не сдуру, от болезни.
— Все-таки стыдно вспоминать, чего я творила.
— Стыдиться вам нечего. Вы же не стыдитесь, что чихаете и кашляете, когда грипп, а ведь на всех вокруг вирусы летят.
— Вы меня утешаете как маленькую.
Но ей было приятно, что он ее утешает.
Не как маленькую, а наоборот, как большую и разумную.
Она расслышала в его голосе интонацию, ласковую и бережную, так говорят с детьми и животными. И захотелось, чтобы он ее погладил — как маленькую девочку, как любимую собаку.
Она посмотрела на него снизу вверх. Она знала, что выглядит особенно трогательной и беззащитной, когда смотрит вот так снизу вверх.
— Значит, я ни в чем не виновата?
— Ну конечно!
— Значит, это как несчастье, да?
— Ну да, точно!
— Значит, я несчастная?
Он поперхнулся. Потом сказал каким-то старательно бодрым голосом, похоже говорят дети, когда хотят говорить с выражением:
— Не всякий, с кем случилось какое-то несчастье, несчастен вообще. Несчастье — это один эпизод, один случай, а кто несчастен — это надолго. С тобой несчастье — вот такой случай!
— Несчастный случай? Вроде как под машину попала?
— Вот-вот, вроде.
Вера поверила. Потому что ей хотелось поверить. Потому что это он говорил, а ему она верила. Потому что он снова обмолвился, сказал ей ты.
Если бы еще он сел рядом, поговорил о чем-нибудь немедицинском. Или ему не о чем с нею говорить? Неинтересно?
— Я тут в больнице и не знаю, что нового в городе. Что в кино, что в театрах?
— В театрах пусто по случаю лета, а в кино — ничего особенного.
— А я бы все равно сейчас пошла. Раньше и не ценила, что могу в любой момент пойти в кино.
— Это можно устроить в субботу или воскресенье. Оформлю тебе пробный отпуск.
О пробных отпусках Вера слышала. Уходящие в такой отпуск всегда держались гордо: это значило, что их скоро выпишут вообще. Вера обрадовалась, но все же ей захотелось притвориться сомневающейся, даже чуть недовольной: многолетняя привычка к кокетству.
— Пробный — это значит попробовать, действительно ли я выздоровела? Вдруг опять что-нибудь выкину, да?
— Это только предлог. Просто нет другого способа тебя отпустить на пару дней. А на самом деле не для пробы, а чтобы ты немного отдохнула от больницы.
Ей послышалась в его голосе легкая досада. Может быть, показалось? Но все равно она стала торопливо оправдываться:
— Это я так сказала, не обращайте внимания! Я с удовольствием! Большое спасибо!
— Значит, договорились. Ну ладно, отдыхай.
Он улыбнулся и вышел из палаты. Так и не погладил по голове. Но стал говорить «ты», кажется, твердо.
Вера не так уже и обрадовалась этому пробному отпуску. В один из дней — в субботу или воскресенье — он почти наверняка дежурит по отделению, они бы о чем-нибудь поговорили, может быть, он бы позвал ее в ординаторскую — ведь других врачей не будет. Побыть дома, конечно, тоже приятно, но вот если бы он к ней зашел как врач, может же он проконтролировать ее состояние?
Виталий не решился сказать Вере сразу, что во время ее пробного отпуска они обязательно встретятся, пойдут вместе в то же кино. Хотя предлог был совершенно неотразимый: раз она проходит курс инсулина, врачебный контроль особенно необходим — бывают же иногда повторные комы. Поэтому инсулиновым больным давать отпуска вообще-то не было принято, и предстояло еще уговорить Капитолину.
Уговаривать Виталий решил начать на другой день с утра, но Капитолина сразу после пятиминутки ушла на на третье отделение — она состояла в комиссии по проверке повторных поступлений — и они все отправились проверять третье.
— Ну, там она чаю напьется, — сказала Люда. — А мы давай здесь сами. К чаю она извлекла из своей сумки коробку с пирожными.
— Чего это ты? — удивился Виталий. — В отпуск еще не уходишь.
— У меня новость. Капитолине еще рано объявлять, а тебе скажу, если не проговоришься.
— Ну?
— Уйду я скоро, наверное. Мне в Бехтеревском место обещают. Белосельский похлопотал.
— Поздравляю. А там куда?
— На девятое, где у них неврозы. Самое интересное отделение. Дебюты эс-цс-ха почти все у них. Это же моя тема: неврозоподобная форма!
Виталий поднял чашку с чаем.
— Ну давай, за неврозоподобную форму!
— Тебе тоже надо отсюда сматываться! Молодой мужик, а киснешь здесь. Вон как ты за эту Сахарову ухватился, а там такие каждый день поступают.
Виталий смолчал. Не объяснять же Люде, что не такие. А Люда все больше воодушевлялась:
— И диссертацию там люди делают за год или за два, а в нашей богадельне за десять лет не напишешь.
Виталий улыбнулся:
— Знаешь, я еще когда здесь студентом ходил, был больной на шестнадцатом, философ. Не в переносном смысле, а с кафедры философии. Ужасно деловой парень. Он все повторял: «Я тут лежу, время теряю, а ребята все докторские пишут!» Ужасно живо представлялось: все такие молодые энергичные философы, спортивные ребята, бобриком подстриженные, засучили рукава и строчат по двадцать страниц в день!
— И напрасно смеешься между прочим.
Виталий хотел рассказать еще что-то про диссертации, но распахнулась дверь, и на пороге возникла запыхавшаяся Маргарита Львовна.
— Мария Андреевна зовет в инсулиновую: у Сахаровой припадок!
Виталий мгновенно очутился в инсулиновой, словно не прибежал, а перенесся.
Вокруг Веры столпились человек пять — все держали. Перед ним чуть расступились. Судороги, синюшность, особенный остекленелый взгляд — на вид в точности как большая эпилепсия. Это не новость, известно, что иногда бывает при инсулине, по надо же, чтобы именно у Веры!
Распоряжаться не требовалось, Мария Андреевна уже набрала шприц и готовилась колоть вену — отчаянное дело при судорогах!
— Держите крепче! — приказала она. — Виталий Сергеевич, с мужской силой!
Виталий схватил Веру за запястье и прижал к кровати — самое полезное, что он сейчас мог сделать..
Мария Андреевна выждала момент и сразу точно попала в вену. Приказала, не поворачиваясь:
— Наливайте следующий!
Двадцать граммов глюкозы ушло в кровь, Мария Андреевна сняла шприц, оставила иглу в вене, из иглы упало несколько фиолетовых почти капель кропи, Мария Андреевна надела следующий шприц:
— Еще, еще, не стойте!
Все-таки Вера резко дернула рукой.
— Держите же!
Виталий решил, что это он виноват, хотя вообще-то при таких резких рывках совсем в неподвижности не удержишь. Но все равно виноват! Такую малость — руку удержать — и то не смог сделать для Веры.
Он посмотрел на ее локтевой сгиб. Появилась припухлость или показалось? Что, мимо немного?
— Да не говорите под руку! Сама вижу! Как рванулась, так и проколола. Лучше держите как следует!
Виталий промолчал. Не до обид сейчас. Не до авторитета.
Судороги прекратились. Виталий с огромным облегчением почувствовал, как расслабилась, снова сделалась женской и слабой рука Веры. А в судорогах она казалась не женской, да и человеческой ли? Виталий всегда чувствовал инстинктивную неприязнь к судорогам, почти отвращение, сходное чувство он испытывал к трупам, как ни подавлял его за годы учебы, потому что судороги не казались ему проявлением жизни, хотя бы и уродливыми, нет, в судорогах, особенно тотальных, эпилептических, ему чудилось что-то неживое, машинное, точно это не человек уже, а разладившийся робот. Виталий держал мягкую Верину руку, счастливый, что в нее вернулась жизнь.