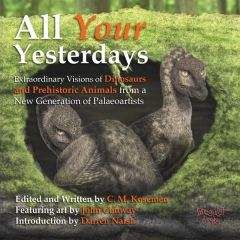Но каждый раз тата возвращался домой один и совсем унылый. Дяде Артуру и Яану-Наезднику он расхваливал адвоката, который, хотя и был очень молодым, но очень умным, но, когда мы оставались вдвоём, тата становился задумчивым, и приходилось по нескольку раз звать его, а иногда и стаскивать со стула, взяв за руку, когда я хотела что-нибудь ему показать. Например, как большой, красноголовый дятел за окном долбил берёзовый ствол в таком забавном темпе, словно он был заводной.
Но на школьном стадионе тата был совсем другим. Когда закончилась возня с бульдозеристами и из карьера на берегу озера привезли на колхозном самосвале несколько куч песка, он собрал больших мальчиков с косами и вместе с ними скосил траву на площадке для прыжков и вокруг беговой дорожки так коротко, что она выглядела совсем как трава в городском парке. Под конец тата раздолбил целую кучу красивых красных кирпичей, и эти осколки перетёр в порошок старинной ручной каменной мельницей, взятой взаймы у дяди Артура. Этим порошком разметили линии на беговой дорожке, и мальчишки стали каждый летний вечер ходить на спортплощадку и усиленно тренироваться, так что после тренировки лица у них были почти такие же красные, как порошок из кирпичей.
На той спартакиаде, куда тата не взял меня, спортсмены Руйлаской школы завоевали много наград, и эти полученные школой дипломы и кубки вызвали у школьников ещё больший интерес к спорту и желание побеждать. Особенно ловкими были мальчики, а девочкам больше нравилось играть в волейбол, но замечания, которыми обменивались играющие, привлекали и меня в число зрителей на краю площадки.
«Не всё коту масленица!» — кричали, когда кто-нибудь из команды противника попадал мячом в сетку. «Больше каши ешь!»
— советовали тому, кто делал плохую подачу. Когда, наконец, выяснялся победитель, проигравших укоряли: «Не за своё дело не берись!»
Смотреть на тренировки бегунов было не так интересно: потные мальчики рысили по беговой дорожке в вытянутых майках и чёрных или тёмно-синих трусах почти до колен. Некоторые были в поношенных теннисных тапочках, некоторые просто босиком. Иногда кто-нибудь, пробегая мимо другого, толкал его локтем и ещё реже кто-нибудь падал, на что другие реагировали насмешкой: «Мужик и связь с землёй».
Тата качал головой, стоя возле беговой дорожки, и кричал:
— Руки! Это вам не бег в мешках! Работайте руками!
Какое-то время, но недолго, он ворчал что-то себе под нос, потом сбросил штормовку и тренировочные штаны.
— Парни, посмотрите, как надо работать руками!
Мальчики сначала смотрели, открыв рот, как тата бежал — руки двигались, словно он на каждом шагу впереди себя отталкивал каких-то невидимых соперников, и ноги двигались всё быстрее. Быстрее, ещё быстрее…
И вдруг мне стало казаться, что там, на беговой дорожке не МОЙ тата, а кто-то другой, гораздо более молодой человек, высокий, стройный и ловкий спортсмен… Пааво Нурми — победитель, для которого в мире нет ничего другого, кроме бега! Он промчался мимо меня так, что воздух дрожал, — и совсем не заметил меня. Меня, Эмиля Затопека! Меня, своего ребёнка!
Под открытым небом не было в тот миг ничего другого. Только эта огромная спортивная площадка, несколько чужих больших мальчиков и бегун с длинными руками и ногами, который, казалось, разбегается, чтобы взлететь. Казалось, он убегает в какой-то другой мир — такой, о котором я и понятия не имела. Для него меня будто и не было, будто я не существовала в этом мире!
— Таа-аа-та-аа! — закричала я что было сил. — Тата, не бросай меня!
Но тата словно и не слышал, он уже второй раз промчался мимо меня, гордо вскинув голову, а большие мальчишки стаей бежали следом за ним.
— Тата, тата, не убегай!
«Вот я, здесь — без матери и отца! — подумала я в отчаянии. — Оба вроде бы есть, но не для меня. Я никакой не Затопек, я маленькая девочка, которая не умеет сама стричь ногти, разводить огонь в плите, нарезать ломтями хлеб и колбасу, зарабатывать деньги… Вот я, здесь, одна-одинёшенька, совсем брошенная!»
— Товарищ Тунгал! — крикнули с того края стадиона, который был ближе к школе. — Товарищ Тунгал, вас к телефону!
Тата всё ещё не замечал ничего вокруг! Ничей голос не мог догнать летящего по беговой дорожке тату — ни мой, ни директора школы.
— Учитель, учитель! — пытались уже и мальчишки привлечь его внимание.
Наконец он остановился, тяжело дыша, остановился передо мной, уперев руки в бока, и спросил с улыбкой, словно ничего не случилось:
— Ну, Эмиль Затопек, сможешь сделать так же или сдаёшься?
— Тётя Людмила тебя зовёт… к телефону! — сказала я, насупившись.
И вдруг мой страх и отчаяние как рукой смахнуло — чувствовала лишь легкую обиду на тату.
— Продолжайте тренировку! — крикнул тата мальчикам и быстро натянул тренировочные штаны.
— Следуй за мной, ладно? — сказал он, оглянувшись, и опять пустился бежать.
У Затопека в этот день не было и вполовину такой скорости, как у Пааво Нурми. Когда я, наконец, вбежала в канцелярию, то увидела перед собой совсем другого тату. Этот ссутулившийся мужчина у окна, выпустивший изо рта облако табачного дыма, никак не напоминал бодрого Пааво Нурми.
— Товарищ Тунгал, — сказала тётя Людмила. — Возьмите себя в руки — ребёнок пришёл!
Тата обернулся и посмотрел на меня в упор.
— Товарищ ребёнок…
Он раздавил папиросу в пепельнице и взял меня на руки.
— Плохие новости, товарищ ребёнок, — сказал он непривычным глухим голосом. — Суд над нашей мамой состоялся, но нас с тобой даже и не позвали. Вот в таком государстве мы живём — самом великом, самом свободном, самом демократическом.
Тётя Людмила сказала, вздохнув:
— Я сделала всё, что смогла… Мы с товарищем Когермаа написали вашей супруге очень хорошую характеристику: морально устойчива, идейно выдержанная…
— Когда мама приедет? — осмелилась я, наконец, спросить.
— Мама приедет через тридцать лет, — горько усмехнулся тата.
— Двадцать пять лет она отсидит в тюрьме за то, что учила эстонских детей, и потом проживёт ещё пять лет в России, прежде чем ей разрешат вернуться на родину. Мы с ней будем тогда уже семидесятилетними, а тебе будет хорошо за тридцать… Вот такие дела, дочка!
— Но вы подайте просьбу о помиловании! — поучала тётя Людмила. — Вы имеете на это законное право.
— Да, конечно, — кивнул головой тата. — У меня есть право просить помилование для своей жены…
Я повернула к себе ухо таты и сказала шёпотом:
— Но тогда и мне нет смысла быть хорошим ребёнком!
Все мои старания быть хорошей, сдерживание капризов, проглатывание гадких слов — всё было напрасным трудом!
Тата рассмеялся почти как обычно, опустил меня на пол и сказал:
— Как раз наоборот. Надо всё равно быть хорошим ребёнком — всем на зло! Спину прямо и улыбку на лицо, дочка! Мы — это мы, а они — это они!
Кто мы, это я знала, но кто они — в то время мне это было трудно понять. Да и сами-то они, эти взрослые люди, понимали ли!
Руйла 1997–2007
Михайлов-Северный В.
Игра в войну. Репр. открытки
Клевер Ю.
Хлебный хвост. Из моего окна. Репр. картины
«Октябрята катаются с горки». Репр. открытки
Луппов С.
Праздник 1-ого Мая. Репр. открытки
Роосаманна (roosamanna — пер. с эст. «розовая манна») — манный мусс (здесь и далее — примечания переводчика).
«В Вяндраском лесу» — эстонская популярная песня «Vandra metsas».
«Та элагу!» («Та elagu!») — эстонская заздравная песня.
«Husqvarna» — велосипеды и мотоциклы шведской фирмы «Husqvarna Motorycles».
Имеется в виду государственный флаг Эстонской Республики.
Ротонда — меховая, бархатная и др. женская длинная теплая накидка без рукавов, распространенная в XIX — начале XX века.
Янкуд (jankud — эст.) — зайцы.
Названия песен, пением которых сопровождались танцы.
Мульк — житель местности Мульгимаа (Mulgimaa) на юге Эстонии.
На улице Пагари в Таллинне находился НКВД/КГБ, «Таллиннская Лубянка».
Дословный перевод с эстонского «Siin Tallinn!» аналогичен русскому «Говорит Таллинн!».
Известные эстонские артисты-певцы 1950-1960-х годов.