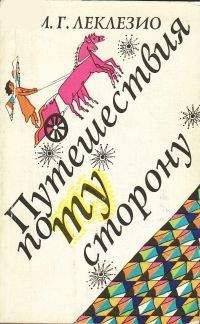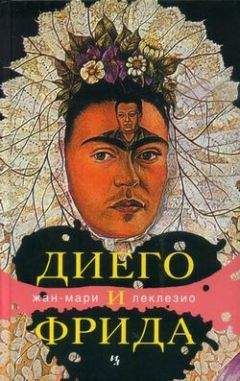Шавез приходит каждое утро вместе с Профессором. Должно быть, она взяла отпуск и не ходит на работу. А может, я и есть ее работа. Мы садимся в машину Профессора и куда-то едем, просто кружим по улицам. Он задает вопросы, все так же пишет на листах из блокнота. Ему хочется выяснить, кто я, чем занималась, где научилась играть на пианино. Мы вместе побывали в торговом центре, в зале с роялем, но меня это не вдохновило. Охранник сменился, это был уже не тот молодой человек, что мне так понравился. А рояль стоял такой огромный посреди пустого зала, точно адская машина. Тогда я повела их в книжный магазин, попросила купить модные журналы и полистала книги, какие под руку попались. Вдруг на одной суперобложке в отделе философии я узнала фотографию Профессора. Книга называлась «Hypnos & Thanatos» или что-то в этом роде. «Эдуард Клейн» — было написано под заголовком, и я обрадовалась, что теперь знаю его имя, а он как будто немного смутился, но тоже был рад. Улыбнулся мне, будто говоря: «Ну да, это я». После он подарил мне свою книгу с надписью: «То my dearest unknown!»[23]
Однажды под вечер дверь моей комнатки в Зионе открылась, и на пороге появился мистер Лерой.
А я даже не удивилась. Я дошла до того предела, за которым все до странного само собой разумеется и одновременно абсолютно бессмысленно.
Всему есть объяснение; придется сказать, что это сделала Нада Шавез. В «Проклятых на земле» я забыла свой контракт. Она позвонила в Чикаго, и мистер Лерой вылетел первым же самолетом. Он привез мне приглашение на фестиваль джаза в Ниццу. Всякое там видали, только глухой пианистки еще не было. Помогать — так до конца: в своем неловком, но от самого сердца порыве Шавез узнала через справочную службу телефон Жана Вилана. У него наверняка будут проблемы с Анджелиной, потому что он приезжает завтра. Не знаю, не придется ли ему поставить крест на своей литовской докторше. Но Бог свидетель, я никого ни о чем не просила.
Я вернулась — под другим именем, с другим лицом.
Я так давно ждала этого дня, это мой реванш. Может быть, сама того не сознавая, я все сделала для того, чтобы он настал.
В Ницце оргкомитет фестиваля поселил меня в том самом отеле на берегу моря, где бронзовая женщина все еще рвется из зажавших ее стен. На эстраде по-прежнему стоял рояль, и кто-то пел, должно быть, на музыку Билли Холидэя [так в бумажном оригинале — Прим. верстальщика]. И я тоже спела мою песню на этой эстраде под покровом ночи. В неимоверной духоте, под свинцово-серым небом, я каждый день бродила по улицам Ниццы, будто надеялась увидеть хоть что-то знакомое. Длинный галечный пляж был черен от народа, улицы запружены машинами. Повсюду распаренная праздная толпа.
Повсюду, где мы ходили с Жуанико. Я села в автобус, вдоль пересохшей реки доехала до развязки автострады, отыскала вход в городок. Наверно, я и вправду стала кем-то другим, потому что, едва я вошла в ворота между рядами колючей проволоки, какой-то человек, развернув свой грузовичок, загородил мне дорогу. Смотрел он на меня волком. Когда я назвала имя Рамона Урсу, рассмеялся мне в лицо. Крикнул остальным что-то, я не поняла, вроде исковеркал имя: «Руссу! Руссу!» Подошел еще один, высокий, щеголеватый даже в лохмотьях, с тонкими усиками. Он жестом показал мне, что никого нет, все уехали. И проводил меня до ворот.
Я пыталась дозвониться Жану, хотела сказать ему, чтобы приезжал скорей. И про ребенка хотела сказать, который у нас обязательно будет, вот только я вернусь. Но из-за разницы во времени говорить пришлось с автоответчиком. Слова не шли, я сказала, что перезвоню. Меня мутило, кололо в боку. Я вспоминала Хурию, как она шла через горы с ребеночком в животе. Почему же у меня нет таких сил, если мой живот теперь пуст? От музыки вдруг стало трудно дышать. Мне хотелось только тишины — солнца и тишины.
Я оставила записку для оргкомитета — написала, что отменяю все выступления. Под вечер покинула отель и уехала ночным поездом в Серверу, в Мадрид, в Альхесирас. Было время каникул, повсюду туристы. Гостиницы переполнены. В Альхесирасе я провела два дня на пыльной автостоянке, сплошь уставленной машинами и трейлерами. Спала на земле, завернувшись в одеяло. Одна марокканская семья поделилась со мной водой, фантой, хлебом. Дети играли среди машин, даже танцевали под музыку из магнитол. Время от времени вдали, за оградой из колючей проволоки, проходили охранники с автоматами. Палящее солнце висело в центре белого неба. Зато ночами было свежо, но не холодно. Мы объяснялись жестами, рассказывали друг другу истории, считали часы, дни по календарю. Поначалу дети дразнили меня из-за моей глухоты, потом привыкли. Для них это была игра, и только.
На третий день мы погрузились на паром. Я не знала толком, почему я здесь. Просто двигалась в потоке людей, сама не понимая зачем. Не за воспоминаниями, нет, во мне не было трепета ностальгии. Я не возвращалась на родину, да у меня ее и нет. И не другой берег меня манил. Мой берег теперь — это берег большого синего озера, обдуваемый холодными канадскими ветрами. Но какая-то нить, из самого моего нутра, тянула меня туда, к месту, еще неведомому.
Автобусом я отправилась дальше на юг. Со мной ехали немецкие туристки в шортах, француженки в шляпках и американки в резиновых шлепанцах. Я проделала с ними часть пути, потом наши дороги разошлись. В Марракеше я пересела на другой автобус и поехала в сторону гор, а им надо было к морю, в Агадир, Эс-Сувейру, Тан-Тан.
В Тизин-Тишка, пока водитель автобуса пил чай, я купила у одного бербера огромный аммонит в подарок Жану. Камень был слишком тяжел для моей сумки, и бербер смастерил мне рюкзак из старого мешка. Это был здоровенный детина с красной, как у американских индейцев, кожей, одетый в широкий плащ из грубой шерсти. Он показал мне открытку, которую прислал ему брат из Америки, из затерянного в лесах селения в штате Вашингтон.
Вот так и добралась я до Фум-Згуида. На юг дорога ведет в Тату, на север в Загору. А прямо никакой дороги нет, только глубокие колеи от шин грузовиков да тропы для коз и верблюдов. Насколько хватает глаз простирается неприветливая голая земля с высохшими колодцами и хижинами из глины и камней, похожими на осиные гнезда.
Вот. Сюда я и ехала. Дальше мне некуда. Я словно стою на берегу моря или у бесконечного устья большой реки.
Сумку и аммонит я оставила в деревне, сняла там комнату.
Проводнику, которого я наняла в гостинице, мне хотелось первому задать тот вопрос, что так давно рвется с моего языка: «Скажите, не в этих ли местах украли ребенка пятнадцать лет назад?» Но я промолчала. Все равно он не смог бы ответить, я это знала. С тех пор как я вернулась, мое ухо стало слышать гораздо лучше, но слышать голоса, слова, речь — разве этого достаточно, чтобы понять?
Здешние люди, те, которых я вижу, и другие, из деревень, которых я еще не видела, принадлежат этой земле, как я никогда никакому краю не принадлежала. Они воюют, иной раз захватом берут чужую деревню, чтобы вырыть колодцы в чужой земле.
Здешние люди, люди племен асака, нахила, алугум, улед-айса, улед-хиляль, — что им еще остается? Они воюют, есть раненые, бывают и убитые. Женщины плачут. Случается, пропадают дети. Такая вот жизнь, что нам еще остается?
Это здесь, теперь я уверена. Свет в зените белый-белый, и улица пуста. От света выступают слезы на глазах. Горячий ветер гонит пыль вдоль стен. Чтобы защититься от ветра и света, я купила большое синее покрывало, какие носят здешние женщины, и закуталась, оставив лишь щелочку для глаз. Мне кажется, нет, я уже чувствую, как в животе тихонько толкается ребенок, который у меня еще будет, обязательно будет. И ради него тоже я так долго добиралась сюда, на край света.
Проводнику надоело ходить за мной взад и вперед по пустой улице. Он присел на камень в тени, у стены, курит английскую сигарету и поглядывает на меня издали. Он не из улед-хиляль, не из айса, не из захватчиков хруйга. Слишком высокий, сразу видно, что городской, из Загоры или из Марракеша, может быть, даже из Касабланки.
Вдалеке, в самом конце улицы, там, где начинается пустыня, у распахнутой двери своего дворика на табурете сидит старуха в черном. Ее лицо не скрыто покрывалом, оно черно и морщинисто, похоже на старую опаленную кожу. Я иду, и она смотрит на меня, не опуская глаз, взгляд у нее жесткий, точно камень. Да и вся она кажется мне окаменелой и такой же старой, как аммонит, что я привезу Жану. Она — настоящая хиляль, из племени полумесяца.
Я села рядом со старухой. Она маленькая, щуплая, едва по плечо мне, как дитя. Улица пуста, иссушена солнцем пустыни. Мои губы пересохли и растрескались, проведя по ним рукой, я увидела на ладони кровь. Старуха ничего мне не говорит. Она даже не шевельнулась, когда я села. Только посмотрела на меня, и глаза на ее черном кожаном лице оказались блестящими, глянцевыми, совсем молодыми.