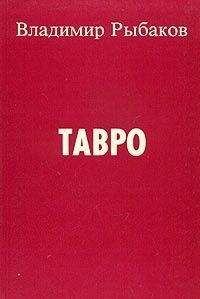— Я знаю.
Мальцев получал чисто эстетическое удовольствие всякий раз, когда встречал человека, открыто ругающего власть. Но он привык, чтобы это делалось с надрывом, желчной яростью, свойственной утомительной беспомощности. В этой же стране он повсюду видел людей, сволочивших власть с высокомерным презрением. И к этому Мальцев никак не мог до конца привыкнуть. Он продолжал в глубине души недоумевать, видя плюющего на полицейских пьяницу-оборванца, умиляться, услышав: «Вы у нас взлетите на воздух». Жесты, слова, выражения лиц словно кочевали с оборванца на хорошо одетого студента, с его профессора на добротного рабочего. Еще более удивительным было для Мальцева, что все эти люди вовсе не считали себя свободными и особенно сильными.
Теперь перед ним был промышленник, ругавший промышленников, капиталист, ругавший капиталистов. «Ремесленник? Уже то, что человек обладает частной собственностью, делает его автоматически и принципиально антикоммунистом, а если он к тому же эксплуатирует рабочих — пусть даже только одного — то как же его назвать, как не промышленником и капиталистом?»
Так подумалось ему, идущему вслед за Жоэлем в цех-мастерскую. Там работало пять человек. Они свободно оторвались от станков и сгрудились вокруг Мальцева — тому дали на пробу задание для новичков.
Шов лег ровный, легкий, почти воздушный. Потолочный шов вышел у него с первого раза. Вокруг одобрительно кивали головами. Кто-то из рабочих обратился к хозяину:
— Неплохо, совсем неплохо, а, Жоэль?
Все захохотали.
— Ознакомьтесь со всеми и всем тут, а я скоро… Рабочие, все еще смеясь, смотрели вслед хозяину.
— Жоэль не так уж плох, уверяю тебя.
Мальцев усмехнулся, сказал работягам:
— Меня это не интересует. Я иностранец, и единственное, чего мне хочется — это спокойно работать. Платят тут хорошо?
Рабочие переглянулись:
— Достаточно никогда не платят. Сам увидишь.
— Ну, а сколько? Приблизительно.
Лица перед ним слегка покривились:
— Мало. Нужно было бы больше.
Мальцев, мысленно послав их к черту, наблюдал несколько часов за жизнью цеха, людей и машин. Он убедился хоть в одном — тут неразумных забастовок не бывает. Он был даже умилен: между рабочими и хозяином существовала настоящая дружба. Они были равны. Здесь не было, как на том заводе, подчеркнутого почтения, даже заискивания перед начальством во время рабочего дня. И злобы тоже.
Он еще больше утвердился в этом мнении, когда Жоэль пригласил его обедать. Мальцев не без любопытства ждал появления хозяйки дома и, услышав чистый московский говорок, вздрогнул. Жоэль жирно расхохотался.
Женщина была на первый взгляд стройна, ее выпуклые глаза послали цепкий короткий взгляд и успокоились. «Таня мне ничего не сказала, стерва». Работать в эмиграции на русских — Мальцев на это никогда бы не согласился.
Женщина рассмеялась. В этих краях вообще много смеялись.
— Удивлен? Мне о тебе Таня рассказала. Все знаю. Добро пожаловать. Не бойся, здесь тебе будет хорошо.
Мальцев едва удержался, сильно хотелось ее обматерить. И было неприятно слышать здесь русскую речь. Он ответил по-французски:
— Да, не ждал. Вы из Москвы?
— Угадал. Да ты мне тыкай, свои же люди, чего там. Ладно? Водки хочешь?
Ее французский был свободен и неправилен. Жоэль вновь расхохотался:
— Да-да, водки. Я ее люблю, так, стаканчик, после обеда. А так мы вино пьем. Женщина спохватилась:
— Меня Светой зовут. Теперь часто будем видеться… я, правда, часто в Союзе бываю, не могу без Союза жить. А ты?
— Как видишь.
Обед тянулся по-французски долго. Жоэль пил вино стакан за стаканом, не пьянел, все радовался чему-то, вероятно жизни. Как только он ушел, Света вновь перешла на русский и стала рассказывать о себе.
Вышла замуж в Москве за негра. И до того гуляла с иностранцами — шмутки да валюта. Он ее, закончив Лумумбу, вывез в Париж. Стали жить. Когда бедняга получил пост в родной африканской стране, строящей социализм, Света себе сказала: «Если он считает меня за дуру, то парниша глубоко ошибается. На-ка, выкуси! Мне и тут хорошо». Развелась. Черный парень плакал белыми слезами, умолял, боготворил. Она не хотела ему плохого, знала, что никто больше не будет так сильно ее любить и окружать почтением. Но не менять же из-за этого Париж на какую-то дыру! Он уехал строить африканский социализм, а Свете пришлось устраиваться на работу.
«Работать в Париже?! Рехнуться можно!»
С Жоэлем познакомилась в муниципальном бассейне. «Он на меня знаешь как смотрел! А я тогда уже не могла больше. Я что, сюда приехала секретаршей вкалывать? Выкуси!» Теперь Света раз в год ездит в Москву, к маме, брату. Туда идут шмутки, оттуда — меха, серебро.
— Может, думаешь, что я спекулянтка? А это неправда! Все ведь радуются. Сам знаешь: когда спекульнешь, то продавцу это по душе, а покупателю совсем нет. А у меня все рады. И в Париже, и в Москве, все говорят, что дешево продаю. Мальцев тоже рассмеялся:
— Да нет, ничего я не подумал. Твоя жизнь — как хочешь, так и живи.
— Ты женат?
— Нет еще. Скоро буду.
— Здешняя?
— Да.
На прощание Света сказала:
— Ты у нас хорошо заработаешь. Но вкалывать здесь надо, как в Париже, не как в Москве… И вот еще что — ты, это самое, не доверяй очень-то людям, с которыми горб наживаешь. Они только так, на вид вежливые.
Мальцев пошел домой задумчивым. «Ладно, я ж эту Свету не буду ведь практически видеть. А она, в общем-то, ничего девка. Ну, обыватель, ну, спекулирует, ну, себя до скуки любит. Что, не имеет права? Имеет. Она полна собой. На здоровье. А если для нее спекульнуть — высшее удовлетворение, духовная радость, цель в жизни, красота души, а?»
Он чувствовал, что цель его — лучшая на свете. Иначе не мог бы он так добродушно отнестись к Свете и вообще к неприятным мелочам, тем самым, что так часто и так сильно задевают чувства. «Был ли я таким?»
Дома под дверью было письмо от Бриджит. Ее почерк сразу разбудил милую боль. Мальцев ее продлил: повертел письмо, прошелся по чердаку, посмотрел на гения, выпил водки.
«Я в больнице. Я тебя прошу, если хочешь и можешь, приходи. Я тебя жду и люблю. Бриджит».
Долгожданная усталость полилась в Мальцева. Если б люди могли за ней наблюдать, они назвали бы ее особой силой. Он долго пытался прочесть сквозь адрес на конверте название хвори, вспомнить до мелочей лицо дочери сенатора.
Оно оказалось бледным и лишенным былой подвижности, и более чудесным, чем память о нем, так оно было бесповоротно обращено к нему, Мальцеву.
Но были еще глаза, от которых он стал надолго счастливым — на целых несколько минут. И впервые за много лет стали в голове Мальцева собираться добрые слезы. Он не стал их сдерживать.
Бриджит больше всего хотела невозможного: встать, подойти и стать ему второй кожей. После всего пережитого и передуманного она видела, насколько вся ее борьба с собой и Мальцевым была бессмысленной. Увидев слезы любви на его щеках, Бриджит по-детски заплакала детским рыданьем. «Произошло третье чудо. Оно произошло».
Мальцев не знал, для чего, идя в больницу, он купил «Путешествие на край ночи». Он понял позже: чтобы выдержать и оставить себе лазейку для неизвестного будущего. Он не мог все отдать Бриджит — цель обязывала и заставляла.
— Привет. Ты Селина любишь? Знаешь, у нас он даже был издан. Мне его дал прочесть на первом курсе один преподаватель. Хороший человек. А знаешь, почему его издали у нас в Союзе? Почему цензура пропустила? Просто по глупости. Они решили, что раз Селин анархист, то значит можно. Они только после спохватились и поняли, что Селин-то анархист, но только правый. Они его и прикрыли, но тираж первый уже разбежался. Так что читай и думай, что, быть может, эту же книгу читает какой-нибудь колхозник на Колыме. Чем глуше у нас библиотека, тем чаще можно в ней найти интересные книженции.
— Ты хочешь меня поцеловать?
Мальцев подошел с осторожностью, стараясь не делать шума. Он хотел прикоснуться к ней с нежностью ее взгляда. Бриджит едва сдержала крик, когда руки сжали ее плечи. Боль в спине становилась все сильнее. Он долго ее целовал. «Еще, еще». Бриджит боялась, что вместе с болью и его губами уйдет и больше не вернется то необыкновенное, что было только что создано их слезами.
Оторвавшись, Мальцев смущенно провел рукой по лицу:
— Э-э-э, а почему ты все-таки написала? Я уж думал, что…
То, что он говорил, должно было все разрушить, он сам должен был стать ей неприятным, пусть на мгновенье. Но необыкновенное оставалось и, не меняясь, проникало все глубже в жизнь Бриджит. Она сразу узнала, почему осталось это чудесное: губы Мальцева дрожали, и любовь не могла дать Бриджит большего подарка. Она рассыпала волосы по плечам:
— Я думала, ты меня забыл. Что ты сначала обиделся, когда я уехала, а после — забыл. Но позавчера отец между прочим сказал, что видел тебя под нашими окнами — ночью, и ты был пьян, и ты долго стоял, и ты смотрел на наши окна. Я тогда решила, что третье чудо все-таки произошло. Тогда я и написала тебе это письмо.