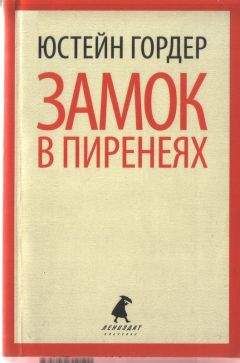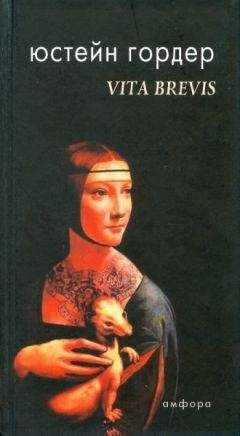После нескольких трудных лет учения Карстен встретил Кристину, которая с тех пор заняла все его внимание. За эти годы он лишь несколько раз звонил Мортену и Малене, но всегда трубку снимал Мортен. Известно только, что Карстен больше ни разу не попросил у «кузена» денег. Тем не менее время от времени он получал от него по почте чек, а когда женился на Кристине, ему пришел чек: на пять тысяч крон от Мортена, Малене, Марен и Матильды Этого было недостаточно, чтобы отношение Мортена к родному отцу изменилось, и потому, вступив в брак, он взял себе фамилию Кристины. Ее семья приняла его тепло и сердечно.
Карстен любил Кристину и после встречи с нею уже ни с кем не искал близости. Но судьба благоволит покорным и прибирает тех, кто ей противится У Карстена на затылке было большое родимое пятно, которое вдруг начало кровоточить. Кристина потребовала, чтобы он показался врачу. Местный врач удалил родимое пятно и, как положено, послал пробу на анализ в Орхус, но результат исследования местному врачу почему-то не прислали. Время шло, а местный врач все молчал. Карстен и Кристина и думать забыли об этом родимом пятне. Однако весной Карстен заболел, у него нашли рак, уже давший метастазы, и тут же вспомнили о пробе, отправленной в больницу Орхуса несколько месяцев назад.
В больнице подтвердили, что проба Карстена была получена, исследована и в результате ему был поставлен диагноз — злокачественная меланома, но для всех так и осталось загадкой, почему местному врачу не сообщили из больницы результатов анализа. Формальная ответственность лежала на главном враче больницы Мортене Къергорде, но к истории с анализом он, по-видимому, не имел никакого отношения, скорее всего, виноваты были лаборанты, проявившие халатность в этом деле. В орхусской газете поместили короткую заметку о том что «главного врача не поставили в известность», из-за чего «было упущено время, когда еще можно было спасти больного». Но об этом быстро забыли.
После начала болезни Карстен прожил всего несколько недель. В основном он лежал дома, Кристина и ее родители ухаживали за ним как могли, поддерживая его и физически, и духовно. Большую помощь они получали от сестры милосердия, которая приходила к ним ежедневно. Ее звали Лотта. Узнав точно, где у Карстена было родимое пятно, она поинтересовалась датой его рождения. Это случилось незадолго до его смерти, но с той минуты она уже не отлучалась от его кровати и все время нежно держала его за руку. Открыв глаза и взглянув на прощание на Лотту и Кристину, Карстен сказал: «С меня хватит!» Это были его последние слова.
Мы с Беатой чуть не целый час сидели прислонясь друг к другу, пока я рассказывал ей историю о Карстене. Она не проронила ни слова, я почти не слышал ее дыхания. Только когда я закончил рассказ, она подняла на меня глаза и сказала, что это удивительная история, хотя и страшная, прибавила она. Страшная и удивительная. Беата была благодарная слушательница. Поскольку сюжет я придумал давно, мне было нетрудно разукрасить его подробностями, уже сидя с Беатой в развалинах старой бумажной мельницы, а гроза добавляла силы и драматизма моему повествованию. Беата повторила, что из этого мог бы получиться замечательный роман и его непременно перевели бы на немецкий язык. Она даже сказала, что заранее рада, что когда-нибудь прочтет его.
По-прежнему сверкали молнии и грохотал гром, дождь не ослабевал ни на минуту, но рассказанная мною история родила столько мыслей, что я не мог начать новую. Я вообще не мог работать сразу над двумя романами, для меня это было неприемлемо.
Мы сидели и обсуждали подробности моего рассказа. Я постарался, чтобы у Беаты создалось впечатление, что она дает мне ценные советы и я, если действительно напишу этот роман, непременно ими воспользуюсь. Она крепче прижалась ко мне, вложила свою руку в мою и несколько раз поцеловала меня в ямку на шее. Наверное, я первый потерял голову, но она не оттолкнула меня. По-моему, с нашей стороны это хулиганство, прошептала она и сбросила с себя всю одежду. В синеватом свете грозы она напомнила мне «Обнаженную» Магритта. Мы осторожно опустились на каменный пол мельницы.
Выбора у нас не было. Мы оказались беззащитны перед стихией. Откажись мы любить друг друга в такую грозу, в такую бурю, это было бы ханжеством. Как будто мы воспротивились велению природы. Отказали ей в праве быть самой собой.
Мы лежали прижавшись друг к другу, пока не перестал грохотать гром. От Беаты пахло сливами и черешней, нам не нужно было говорить друг с другом. Лишь когда дождь перестал, она приподнялась и сказала:
— Давай примем душ!
Странная девушка, ведь душ небесный был уже закрыт, однако она вскочила и потянула меня за собой. Не одеваясь, мы побежали по тропинке, было не холодно. Беата тянула меня к водопаду, она напомнила мне о моем обещании. Через несколько минут мы уже стояли под водяными струями и пели. Начала Беата. Она пела «Мольбу Тоски», мне этот выбор показался странным, и я ответил арией Каварадосси в башне, которая лучше подходила к этой минуте. Но она продолжала свое: Perchй? Perchй, Sig mare?[32] Мне нравилось, что она знает оперную классику. Меня это не удивило, но пришлось по душе. Не знаю почему, но я вдруг запел старую детскую песенку, может быть, потому, что был счастлив. Я не вспоминал этой песенки с самого детства:
Крошка Петтер Паучок
Потерял свой башмачок.
Солнце скрылось, хлынул дождь,
Разошелся во всю мощь.
Под дождем свой башмачок
Ищет Петтер Паучок.
Дождь прошел, и день прошел.
Башмачка он не нашел.
Мы бегом вернулись к руинам и оделись. А когда снова вышли на тропинку, уже вовсю светило солнце. Мы не испытывали ни малейшего смущения. Мне, правда, было немного неловко за то, что я спел старую песенку о Петтере Паучке. К счастью, Беата не спросила, что я пел, и, может быть, вообще не слушала, но я жалел о своей неосмотрительности. Я еще раз мысленно вернулся на пьяцца Маджиоре в Болонью.
Мы перешли через реку и начали карабкаться по крутому склону, вот тут Беате очень пригодились ее кроссовки. Через час мы были уже на смотровой площадке, которая называлась Лючибелло. Отсюда нам был виден Амальфи и большая часть Соррентского полуострова. Беата набрала пышный букет ледвенца и протянула его мне. Пожалуйста, сказала она, это пасхальный цветок. Я объяснил, что на некоторых языках этот желтый горошек называют золотыми башмачками Марии, а по-английски — детскими башмачками, прибавил я и показал ей почему.
Мы начали спускаться к Поджероле, в одной руке я нес букет ледвенца, другой поддерживал Беату. Беата заметила, что мы могли бы пожениться и нарожать детей. Это было сказано бездумно, но мне стало приятно. Серьезности в ее словах было не больше, чем во вчерашнем приглашении искупаться под водопадом. Я обронил, что собираюсь пригласить ее с собой на Тихий океан. Беата только взглянула на меня и засмеялась. Но я, во всяком случае, уже сообщил ей об этом.
В Поджероле мы зашли в бар и заказали сэндвичи и бутылку белого вина. Потом сели за столик и, наслаждаясь открывшимся видом, пили кофе, лимончелло и бренди. Мне дали вазу с водой для моего букета.
Когда мы стали спускаться по крутой каменной лестнице к Амальфи, Беата сказала:
— Значит, ты пишешь романы? А еще ты сказал, что работаешь в издательстве. Не слишком ли ты много работаешь?
Это был уже не пустой разговор. Теперь ей хотелось узнать, кто я на самом деле.
Я решил открыть ей столько, чтобы она поняла, что я и есть тот самый Паук, если она вообще слышала о таком феномене. И объяснил, что помогаю некоторым писателям работать над книгами, подсказываю им иногда интересные идеи и даже готов снабжать их набросками, которые могут лечь в основу их произведений. У меня воображения больше, чем требуется одному человеку, признался я, это дешевое сырье. Так и сказал: воображение — это дешевое сырье.
Беата по-своему реагировала на мои слова, сомнений у меня не было, она ответила молчанием и задумчивостью. Это можно было толковать по-разному. Или она узнала во мне Паука и была сообщницей заговорщиков. Или все-таки читала ту короткую заметку в «Коррьере делла сера», ведь она сама сказала, что каждому, кто хочет быть в курсе всех событий, необходимо читать именно эту газету, и особый упор сделала на страницы, посвященные культуре. А может, ее реакция вообще никак не была связана с Пауком. Может, Беата таким образом реагировала на мою довольно необычную роль в литературном процессе.
Я немного рассказал ей о фантазии и «Помощи писателям». Слушая меня, она встряхивала головой, словно все глубже и глубже погружалась в задумчивость. И тут я принял радикальное решение. Предложил ей прочитать то, что написал, уже живя здесь, в отеле, сказал, что мог бы перевести это для нее на немецкий. Я не хотел иметь от нее никаких тайн, моему молчанию следовало положить конец. Снова мне пришла в голову мысль, что мы с ней могли бы уехать и поселиться где-нибудь на другом континенте, может, нам обоим было от чего бежать, хотя она и задумала провести все лето в Южной Италии. Про себя я решил, что попробую остаток дней прожить как порядочный человек. У меня была только одна жизнь, и я не торопил ее конец.