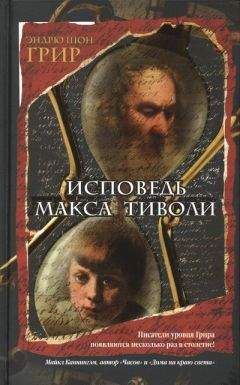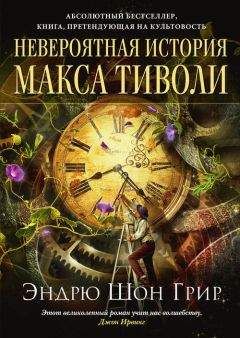Да. После долгих лет в тесной квартирке мы с Элис приобрели огромный дом на равнине, откуда открывался захватывающий вид на Алькатрас, и современный гараж, где стоял наш «олдсмобиль». Мы наполнили новое жилище множеством дурацких вещиц, какие покупают люди, вернувшие былой достаток: милые безделушки и капризы, которых нам так недоставало — одежда, еда, изящные привычки — и которые стали вдвое приятнее. Разумеется, в новом доме мне пришлось заново искать тайник для того, что могло выдать мой настоящий возраст — для нескольких писем и кулона, полученного от бабушки. Прежде я спокойно хранил их в груде старой обуви, теперь же не мог найти подходящего места — слуги прибирались во всех уголках. В конце концов я сложил все в шкатулку, запер ее, поставил в комод и приказал горничной не трогать коробку.
Об Элис я не волновался: моя любопытная жена едва ли заходила сюда. Когда же она поднималась ко мне, я одаривал ее, чем только мог, и Элис сияла. Она улыбалась, глядя на нелепые украшения в бархатных футлярах, вскрикивала при виде новой машины, припаркованной у дома (правда, драгоценности Элис не надевала и машину не водила). На самом деле, разбогатев, она продолжала одеваться в эксцентричные дешевые наряды — а иногда и белье выбирала по тому же принципу. Элис интересовалась только своей студией, которую я поклялся купить. Как я хотел вернуться в прошлое и заткнуть себе рот! Да откуда мне было знать? Догадка пришла ко мне слишком поздно: тем утром, когда Элис сошла с поезда, чмокнула меня в щеку и с видом фокусника, достающего платок, извлекла из кармана бумаги: только что подписанный договор об аренде. Элис выглядела такой счастливой, ночью она буквально таяла в моих объятиях. Желанная фотостудия. Крохотное здание в оживленном районе… Пасадены, где же еще.
— Элис должна быть рядом с матерью, — объяснил я Хьюго, когда он поднял брови. — Они связаны сильнее, чем я думал. Как инжир с кипарисом из восточных садов, которые врастают друг в друга, надо же. Ее партнер по студии тоже там. Элис у него учится, когда-то он был знаменитым художником, Элис считает… считает себя его музой. У него есть клиенты и опыт. — Старина Виктор — давний друг миссис Леви. Я всегда представлял его с длинными седыми усами и обожженными вспышкой бровями.
— И ты позволил?
— Она так хотела студию. Когда любишь кого-нибудь, разве не стремишься осуществить его мечты? Раз способен ему помочь? А Элис все равно пришлось бы туда ездить. Я стараюсь видеться с ней при каждой возможности. Этого вполне достаточно, не так ли? Когда действительно любишь.
— Наверное, — тихо вздохнул мой друг.
— Так что у нас все в порядке, Хьюго.
— Точно?
— Точно.
Он посмотрел на меня голубыми глазами, обрамленными светлыми ресницами. Потом покачал головой и тронул меня за рукав.
— Расскажи ей, Макс, — попросил он. — Иначе потеряешь ее.
— Я не желаю обсуждать эту тему.
— Глупости, — прошипел Хьюго. Люди с улыбкой следили за нашим приглушенным спором. — Крашеные волосы и трость тебя не спасут. Ты же не считаешь Элис круглой идиоткой. Ты ее потеряешь.
Я взглянул на его нелепые усы, пушистые и дурацкие, словно неудачная маскировка.
— Заткнись, Хьюго, — приказал я. — Не тебе давать советы. Все в округе знают, что в любви ты ни черта не понимаешь.
Скорее всего (а надо ли объяснять слова, произнесенные в подпитии?) я говорил о его неудачном браке. Однажды я зашел к нему вручить приглашение, горничная попросила подождать Абигейл, та вышла в длинном парчовом халате, туманный взгляд, светлые волосы — тусклые и грязные. Из верхних комнат доносился крик ее сына.
— Хьюго нет, — пробормотала она и улыбнулась заученной улыбкой. — Он приводит в порядок наше прежнее имущество и останется там, пока не закончит ремонт.
— Какое еще прежнее имущество?
— «Тыкву», — моргнула она.
Первым делом я — да и Абигейл, наверное, тоже — подумал о сказочной хозяйке, живущей в «тыкве». Потом я со всех ног бросился в холостяцкую берлогу Хьюго, однако нашел там лишь комнаты, полные восточных ковров и светильников, шкафы, набитые новенькими книгами в блестящих обложках, нового слугу и своего друга в затрапезном одеянии. Иными словами, обыкновенное мужское убежище. Хьюго с самым спокойным видом объяснил, что не может читать дома, где обитают крикливая жена с ее вечными головными болями, ребенок и множество кошек. Стены убежища мой друг увешал чьими-то портретами — Абигейл такого не допустила бы, — незнакомые люди взирали на меня с нарисованными улыбками. Слуга принес трубку, и мы, как в былые времена, курили гашиш, пока не оказались на полу. Я тогда еще подумал, что Тедди, слуге, было столько же лет, на сколько я выглядел, — блестящие черные волосы, румяные щеки и слегка испуганный взгляд, который мне не воспроизвести. Тедди молча подложил под мою голову подушку и укрыл одеялом.
— Спасибо, Тедди.
— Не стоит благодарности, сэр.
— Спасибо, Тедди, — со вздохом повторил Хьюго и сразу же захрапел на своем диване. Я помнил его, общающегося с девчонками, с Элис, в университете и в браке, — все такой же мой друг спал на диване. Снова один, в своей холостяцкой берлоге, со слугой и усами; где-то далеко жена баюкает ребенка и поет колыбельную, которую Хьюго не слышит. «Ни черта не смыслит в любви». Он понял, о чем я говорил.
Эти страницы я дописываю в спешке. Дом убирают перед вечеринкой с коктейлем — перед довольно противозаконным мероприятием, милая, но я никому не скажу — и ты у себя в спальне приказываешь кому-то убрать твои платья. Мне надо бежать. Я должен добраться туда раньше Сэмми.
Восполним упущенные детали: приглашение, с которым я ходил к Хьюго. Оно не имело никакого отношения к обычным клубным собраниям — бесчисленным скучным застольям, которые вынуждены посещать обеспеченные люди; оно касалось особенного события. Его приглашение было вложено в мое собственное — полагаю, хозяйка знала только мой адрес, — и я принес его, поскольку хотел, чтобы он пошел со мной. Ради воспоминаний, ради истории. На бал, который давала наша старая горничная Мэри.
Скорее всего даже самого юного читателя не удивит, что до землетрясения каждый сенатор и торговец бросали монетки в ее музыкальную шкатулку и заказывали бутылочку-другую шампанского. Многие из них обладали своими личными потайными окошками в «комнату девственницы». Мадам Дюпон даже открыла публичный дом для женщин. Посетительницы приходили в шелковых масках, дабы сохранить инкогнито, в заведении работал целый гарем мужчин, причем совершенно бесплатно. Разумеется, подростков туда не принимали. Давление церкви, законодательство и крах нашего дорогого коррумпированного правительства вынудили мадам Дюпон закрыть свои заведения. До этого Мэри процветала, клиенты-маклеры помогли удачно вложить средства, в переполненной гостиной не раз можно было услышать, какие акции наиболее выгодны. Однако о Мэри мы услышали и после землетрясения, поскольку, как она не раз говорила мне за бокалом вина, у нее оставалась несбыточная мечта.
— Я хочу быть настоящей леди, — вздыхала Мэри, поправляя светлый парик. — Черт подери, я это заслужила. Я трудилась над мужиками не хуже любой жены. Я хочу отужинать с Вандербильтом,[5] и чтобы он повернулся ко мне и сказал: «Мадам, был рад знакомству».
Вот почему спустя годы после того, как двери публичного дома закрылись, после того, как большинство людей вычеркнули из памяти ее порочные услуги, после того, как мы забыли о ней, все значительные люди Сан-Франциско получили следующие приглашения:
Мистеру и миссис __________________ Приглашение на Осенний бал 20 марта 1914 года 20.00 в особняке Марии Дюпон
Распутницы всегда при деньгах, а деньги в нашем городе решают все, поэтому мы очутились в элегантном белом особняке рядом с испанскими графами и американскими железнодорожными магнатами. Ночное благоухание жасмина, можжевельника, колонны, изогнутые в форме ухмылки Тедди Рузвельта. Я подумал, что Мэри все до последнего цента потратила на этот дом, выбранный не для уютной старости, а для этой самой ночи. Мерцающий газовый (не электрический) свет, звуки оркестра, вливающиеся в открытые двери словно шепот дальнего водопада; за все это пришлось отдать как минимум миллион. Я представил, как старая Мэри бродит по пустым комнатам, теребит в руках какую-нибудь безделушку и представляет этот бал, где все ее сыновья, отцы и любовники соберутся ради нее. Прекрасное время для лучших драгоценностей, лучших шуток, званый вечер подобно всем воссоединениям соткан из давно забытых воспоминаний.
В дом нас провела англичанка. Темнокожей прислуги не было, однако «мадам» оставалась прежней, хозяйка стояла на вершине винтовой лестницы и улыбалась. Издалека я разглядел только ее неестественную худобу, легкую старческую сутулость и дорогие локоны светлого парика. В детстве и старости мужчины и женщины похожи друг на друга, Мэри стояла, уперев руки в бока, будто сержант. Ей было около семидесяти.