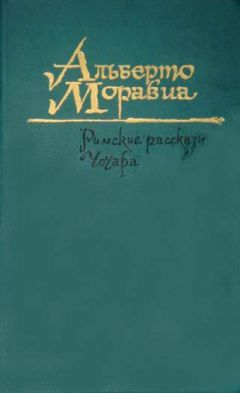Одним словом, я чувствовала себя, как животное; вероятно, животные, у которых нет других забот, кроме как о своем теле, испытывают те же ощущения, которые испытывала я, вынужденная обстоятельствами быть только куском мяса, не чем другим, как телом, которое питается, спит, чистится, чтобы чувствовать себя как можно лучше, и находит в этом удовольствие.
Солнце медленно обходило небо, спускаясь к морю. Когда море начинало темнеть и становилось красным в закатных лучах солнца, мы пускались в обратный путь, но уже не по тропинке, а бегом под гору, скользя по траве и камням, продираясь сквозь кустарник, и за полчаса покрывали то же расстояние, на которое утром нам приходилось тратить по крайней мере два часа. Возвращались мы как раз к ужину, пыльные, облепленные листьями и колючками, и сразу шли в шалаш ужинать Ложились мы рано, и еще до зари были опять на ногах.
Но не всегда на плоскогорье все было таким тихим и далеким от военных событий. Я не буду рассказывать о самолетах, часто пролетавших над нашими головами то в одиночку, то эскадрильями, ни о взрывах, эхо которых глухо долетало к нам из долины, напоминая о том, что проклятые немцы продолжали взрывать дамбы каналов, заливая всю долину водой и распространяя таким образом малярию, но война напоминала о себе и частыми встречами с людьми, заходившими на перепал. Через этот безлюдный перевал проходила дорога тех, кто шел горами, избегая равнин, и пробирался из Рима или даже из Северной Италии, оккупированных немцами, в Южную Италию, к англичанам. Это были по большей части или солдаты, дезертировавшие из армии, или бедные люди, возвращавшиеся в свою деревню, откуда им пришлось уйти из-за военных событий, или заключенные, бежавшие из концентрационных лагерей. Одна из этих встреч запомнилась мне особенно хорошо. Мы ели наш обычный хлеб с сыром, как вдруг увидели, что из-за скалы к нам подходят двое мужчин с палками в руках, напоминающие дикарей. Одежда их висела лохмотьями, но не это произвело на меня впечатление, потому что лохмотья стали уже обычным явлением; меня испугали их плечи невиданной ширины и их лица, совсем не похожие на наши лица, нас, итальянцев; я окаменел,! от испуга и, забыв о хлебе и сыре, которые держала в руке, ждала их приближения. Микеле, никого и ничего не боявшийся, даже не потому, что был очень храбрым, а просто потому, что относился ко всем с доверием, встал, подошел к этим двум мужчинам и начал объясняться с ними жестами. Немного придя в себя от испуга, мы с Розеттой тоже подошли к ним. Лица этих мужчин были желтые и плоские, без бороды и усов, вдоль гладкой кожи щек шли продольные морщины, волосы у них были черные и густые, глаза маленькие, с приподнятыми к вискам углами, носы приплюснутые и рты, как у мертвецов, зубы темные и все поломанные. Микеле сказал нам, что это были русские пленные, только не русские, а монголы, как бы это объяснить — китайцы; они, вероятно, удрали из концентрационного лагеря, в которых немцы держали военнопленных. Я смотрела, не сводя глаз, на их широкие плечи и думала, что мы совершаем неосторожность, оставаясь здесь с ними, лучше было спрятаться от них или удрать: это были такие большие и сильные мужчины, что, бросься они на меня и Розетту, мы ничего не могли бы с ними поделать. Но эти монголы вели себя очень прилично; они немного посидели с нами, может быть час или два, разговаривали все время жестами. Микеле угостил их хлебом и сыром, они ели без жадности и, как мне кажется, поблагодарили нас. Они оба непрестанно смеялись, может быть потому, что не понимали нас, а мы не понимали их, и этим своим смехом они хотели показать, что не сделают нам ничего плохого. Микеле все так же жестами объяснил им дорогу, по которой они должны были идти, и они ушли через некоторое время; издали они были похожи на двух больших обезьян, которые идут на задних ногах, помогая себе большими палками.
Другой раз через перевал проходил итальянский рабочий, сбежавший с линии фронта, куда его послали рыть укрепления; не помню точно, на каком фронте он был, но только он сбежал оттуда, потому что с итальянскими рабочими обращались, как с собаками, и заставляли их работать как каторжных. Это был красивый юноша, очень изящный, лицо смуглое, с тонкими чертами, но худой до невероятности, скулы торчали, грустные глаза ввалились — просто кожа и кости, он еле держался на ногах от слабости. Он рассказал нам, что его семья живет в Апулии и что он надеется добраться туда через горы. Уже неделя, как он находился в дороге, одежда на нем порвалась, обувь развалилась. Он был так слаб, что еле мог говорить; скажет несколько слов и останавливается, чтобы перевести дыхание. Он передал нам слухи, что в Риме было восстание: убили несколько немецких солдат, а немцы в отместку организовали карательную экспедицию; подробностей о том, когда и где это случилось, он не знал. Говоря о немцах, он сказал:
— Это не люди, а звери. Они отлично знают, что проиграли войну, но любят воевать и будут воевать до последнего солдата, тем более что живут они за наш счет и ни в чем не нуждаются. И если война не окончится скоро, то мы все умрем с голоду. Одно из двух: или кончится война, или нам всем конец.
Микеле дал ему немного хлеба, сыру и табаку, а он, отдохнув с полчаса на перевале, пошел дальше, еле передвигая ноги, так что казалось, что он вот-вот упадет на землю и больше не встанет.
Однажды утром мы загорали на солнце, как вдруг услышали свист. Мы все трое сейчас же спрятались за скалу, чтобы оттуда проследить, кто свистел. Мы были все время начеку, потому что боялись немецкой облавы. Подождав немного, Микеле высунул из-за скалы голову и увидел человека, поспешно прятавшегося за ближайшую скалу. Довольно долго мы следили друг за другом, пока наконец взаимно не убедились, что ни мы, ни они не были немцами, только тогда мы вышли из своего укрытия Эти двое были из Южной Италии, военные — старший и младший лейтенанты, как они нам сказали, — хотя и одетые в штатское, потому что они, как и многие другие в то время, бежали из армии и пробирались по горам на Юг, намереваясь перейти фронт и добраться до родных мест, где жили их семьи. Один из них был брюнет, высокий, смуглый, с круглым лицом, глаза его были черные, как уголь, зубы белые, а губы почти фиолетовые; другой был блондин, с длинным лицом, голубыми глазами и острым носом. Брюнета звали Кармелл, блондина — Луиджи. Из всех людей, с которыми мы встретились в этих горах, они были самыми несимпатичными, не потому, что они были такими уж плохими людьми, может быть, в мирные времена, встретив их в обычной обстановке, я не нашла бы в них ничего несимпатичного, но война вскрыла в них, как и во многих других, такие черты характера, которые в мирное время остались бы незаметными. Тут мне хочется отметить, что война для всех большое испытание: чтобы узнать людей, надо видеть их во время войны, а не В мирные времена — не тогда, когда есть законы, уважение к другим людям и благочестие, а тогда, когда ничего этого нет и каждый человек проявляет свои наклонности, ничто не сдерживает его и он ни к чему не питает уважения.
Эти двое в момент заключения перемирия находились со своим полком в Риме, дезертировали и спрятались сначала в городе, а потом удрали из Рима и теперь пробирались к себе домой. Около месяца они скрывались у крестьянина на склоне Горы Фей. На меня сразу произвело плохое впечатление то, как они говорили об этом крестьянине, который дал им кров и пристанище: они отзывались о нем презрительно, называя его мужиком и невежей, не умеющим ни читать, ни писать, а дом его, по их словам, был настоящим хлевом. Один из них даже сказал, смеясь:
— Ну что ж поделаешь, на безрыбье и рак рыба.
Дальше они рассказали, что им пришлось уйти с Горы Фей, потому что крестьянин намекнул им, что не мог держать их больше у себя, потому что ему нечем было их кормить; тут брюнет заметил, что это неправда, если бы у них были деньги, то продукты, конечно, нашлись бы, потому что все крестьяне — жадный, корыстный народ. В общем, они шли на Юг и надеялись перейти линию фронта.
Наступило время завтракать, и Микеле неохотно предложил им разделить с нами наш обычный завтрак, то есть хлеб с сыром. Брюнет оказал нам, что хлеб они возьмут с удовольствием, а сыр у них есть — целая головка, которую они украли у жадного крестьянина, покидая его дом. Говоря это, он вытащил из дорожного мешка головку сыра и показал нам ее. Меня охватило неприятное чувство, не столько потому, что он украл — в эти Бремена все крали и воровство перестало быть преступленном, — а потому, что он говорил об этом таким тоном; мне казалось, что такая откровенность неприлична в человеке, который имеет чин старшего лейтенанта и по манерам которого видно, что он был синьором. Кроме того, подумала я, это был очень некрасивый поступок: в благодарность за гостеприимство унести у крестьянина то немногое, чем он располагал. Но я ничего не сказала. Мы уселись на траве и принялись за еду; закусывая, мы все время разговаривали, вернее, слушали рассказы брюнета, который говорил безостановочно и все время о себе; по его словам можно было понять, что он крупный землевладелец у себя на родине и отличился как офицер на войне. Блондин слушал его, щуря глаза от солнца, и время от времени возражал ему, делая это довольно ехидно, но тот, не смущаясь, продолжал хвастаться. Брюнет, например, говорил: