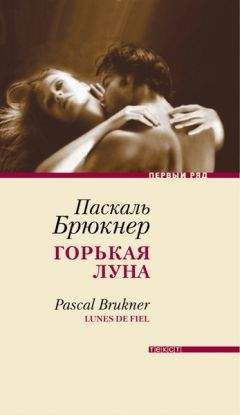Чувствительность расширяет свое влияние по мере того, как увеличивается дистанция между людьми и распадается великая цепь союзов и взаимных связей, соединявшая при Старом режиме всех, от короля до последнего крестьянина. Сообщество, нация основаны уже не только на кровном единстве, религиозной идентичности, этносе, но на свободном договоре. То, что было естественным, должно быть перестроено, социальные отношения постоянно «перегреваются» с опасностью обрушиться. Солидарность, которая существовала внутри группы, в деревне, в семье — правда, ценой несвободы, — отныне должна утверждаться заново, чуть ли не разыгрываться, с риском впадения в угодничество: эта закономерность уже нигде не наблюдается, кроме Соединенных Штатов — там совершенно чужие люди проявляют к вам неумеренную нежность и затем тут же о вас забывают. Главное — выказывать сердечность, использовать симпатию и доверие в качестве военной тактики. Улыбка — это способ держать окружающих на расстоянии или убивать их под видом любезности. Современная задача — совместить автономию личности и сплоченность коллектива, не отказываясь от того или другого.
Отсюда — постоянное побуждение преодолеть эгоизм, идти к другим, чтобы компенсировать слабость нашего положения. Наше милосердие изменчиво, так как нами движут два начала: волюнтаризм и непостоянство. Мы горячо увлекаемся каким-то делом и также быстро остываем. Однако обнадеживает то, что наш идеал — объединение, в отличие от классической эпохи, сословного общества с жесткой системой правил, где господствовал идеал иерархии и надлежало держаться своего ранга, отвергая неподобающие союзы. Мы переживаем эпоху двойной непристойности — аффективной и эротической: свадьба Бриджит Джонс и Рокко Сиффреди, одновременный триумф секса и сюсюканья, «chick lit» (литературы для девочек) и трэша. Двойной прорыв на общественную сцену сантиментов и секса, вторжение слащавости и «hard». Приторность и порно имеют нечто общее: там и здесь нечто изливается — либо слезы, либо другие жидкости. Но в вечной оргии порно не меньше идеализма, чем в пошлости «розовых» романов: там и здесь приключение человеческой жизни одномерно — мерилом служит либо трепетное сердце, либо генитальная активность в полном объеме. Одинаковое стремление к высотам, будь то проявление нежных чувств или животного начала. С одной стороны, мармеладный парадиз для дурачков, с другой — исступленные спаривания воплощают одни и те же поиски своего рода чистоты жанра, чтобы мы перестали замутнять любовь, смешивая духовность и разврат, вожделение и воркование.
Сегодня любовь, со счастьем вместе, превратилась на Западе в глобальную идеологию, она стала нашим эсперанто, что позволяет преподносить нежность и злобу, ласку и таску в одной упаковке[184]. Это слово-буфер, грозное, поскольку неопределенное, оно закрывает дискуссии, перед ним склоняют голову. Кто не восхваляет это понятие в литературе, в песне, в кино, кто не видит в нем магического решения всех наших проблем? Любя, наказывают и тиранят, в том числе в лоне семей — ради «блага» детей; обо всем говорится на языке задушевности, сердечной близости, доверительного тет-а-тет. Чем шире распространяется любовь на словесном уровне, как губка, впитывающая все разногласия, тем больше полагаются на нее в качестве единственного средства разрешения проблем воспитания, служебных отношений, политики, сосуществования в городе.
Но не только любовь связывает людей, обеспечивает преемственность поколений, цементирует общество: она не может стереть социального и культурного детерминизма, она не заменяет институты, задача которых поверять временем эфемерные эмоции. Любовь не способна победить ненависть, ярость, смертоносное безумие, скорее, это дело разума и демократии, которые ограничивают, останавливают их разрушительную мощь. И совсем не любовь побуждает проявлять щедрость или сочувствие: мне не нужно любить обездоленного, которому я помогаю, голодных и страждущих, которым я оказываю денежную или материальную поддержку[185]. Для того, чтобы между людьми возникло нечто похожее на любовь, нравы, управление, государство должны были бы подчиняться другой логике, следовать не только законам прихоти, крутых поворотов, но воплощать постоянство, беспристрастность, спокойствие. Но общество — не океан нежности, и именно поэтому граждане могут отдаваться взаимным порывам с присущей им прекрасной непоследовательностью. Удержать общественный порядок на тонком острие любви, уничтожив таким путем подлость и несправедливость, — этот план не жизнеспособен: порядок эмоций должен сохранять некоторую автономию, не смешиваясь со всем остальным.
Ближнего создает любовь, — сказал шведский философ и богослов Сведенборг (XVIII век). Прекрасное, но неверное выказывание, ибо мой ближний существует, люблю ли я его или нет, мы живем среди тысяч анонимов, которым смешна наша заботливость, которые хотят только без помех заниматься своими делами. Мы встречаемся с немногими, с большинством мы лишь «пересекаемся», не всякое лицо для меня — загадка, которая велит любить человека (Левинас), служить ему. Я держусь со всеми на вежливой дистанции, не желаю им никакого зла. Благожелательная нейтральность должна быть modus’ом vivendi любого коллективного бытия. В городе, в семье первый императив — это помощь, а также спокойствие: не делай другому того, чего, по-твоему, он не должен делать тебе. Все люди имеют право, чтобы их оставили в покое. Одна из важных добродетелей коллективной жизни — прежде всего, умение отстраняться — то, что Стюарт Милль называл «no harm principle»: не вмешиваться, не надоедать, не лезть в чужую жизнь. Мои отношения с современниками многообразны: от любезности до страсти, включая равнодушие и даже аллергию. Главное — сохранять правильные интервалы, придерживаться середины между вторжением и забвением, ограждать людей от взаимных экспансий. Стендаль определял общество как взаимное удовольствие, которое дарят друг другу люди, априори индифферентные. Большая радость общественной жизни — проходить сквозь чуждые миры, вплетаться в различные контексты, наслаждаться переходом, транзитом, не становиться пленником какой-либо группы, быть свободным от социальной эндогамии, от фатальности кровного родства. Где более гнетущая атмосфера, чем в конгрегациях, члены которых посягают друг на друга и задыхаются от взаимных излияний? Это уже не общество близких по духу, а муравьиная куча.
Как не удивляться, что столько политических руководителей и глав предприятий используют риторику любви и самораскрытия, не боясь быть смешными? От Уго Чавеса, восклицающего: «Социализм есть любовь!», до Жака Ширака, объяснившегося нам в любви в прощальной речи, когда он покидал свой пост в марте 2007 года[186], и Сеголен Руайяль, кандидата от социалистов на президентских выборах того же года, закончившей митинг на парижском стадионе «Шарлети» евангельским призывом: «Будем любить друг друга» («друг на друге» — так было бы ближе духу 1968-го года). Не забудем и сострадательную политику нынешнего французского президента, спешащего к изголовью раненых, и проповеди лидера троцкистов Оливье Безансено, повторяющего афоризм Че Гевары: «Нужно обрести жесткость, никогда не изменяя своей нежности» (эта фраза — замечательный пример перформативного противоречия: беспощадная любовь революционера, который уничтожает врагов ради высшего блага человечества). Народом уже не управляют, его ласкают, качают, с ним поддерживают самую тесную близость и в то же время обольщают, следуя модели отношений между родителями и детьми. Не отстают и предприятия, которые представляются не тем, что они есть (машины для извлечения прибыли), а городами света, центрами «построения смысла»; они хотят овладеть нематериальными пространствами души, подменить собой политические партии, школу, великие духовные учения. Напыщенное морализирование иных влиятельных патронов говорит об их ненасытной жадности — не в финансовом, а в символическом плане: они мыслят себя новыми законодателями, выразителями всеобщей совести, творцами аксиом. Всякий раз, когда правительство, режим, крупный руководитель впадают в сентиментальный алкоголизм, будем начеку: они затевают что-то недоброе.
Мы видели, что две великие «цивилизации любви» (папа Бенедикт XVI), известные нам из Истории: христианство до XVIII века и коммунизм — оказались неубедительными. XX век в его большевистской версии стал веком вооруженного альтруизма, жаждущего насильно осчастливить род человеческий и развернувшего широкомасштабное массовое убийство людей. Но западные демократии не остаются в долгу: поддаваясь, в свою очередь, универсальной логике обращения, они отстаивают право вмешательства. Мы постулируем, что наши ценности глобальны, вопреки тому факту, что многие — причем не самые маленькие — страны упорно не хотят их принимать (Китай, Россия, Саудовская Аравия и другие). С одной стороны, крайнее равнодушие, столь очевидное в Боснии и Руанде, с другой — чрезмерность совместных действий в Сомали (1993) или в Ираке (2003), когда мы намеревались спасти народ от голода или от диктатуры против его воли. Ограничимся борьбой с теми, кто на нас нападает, последовательным отстаиванием своих принципов, помощью тем, кто открыто о ней просит (как сегодня иранская оппозиция), содействием распространению в мире некоторых прав. Но искусственно навязывать демократию во всех точках Земного шара, утверждать ее силой штыков значит только возмущать народы. Это то же опьянение Благом, что вдохновляет некоторые неправительственные организации. Порой сочувствие любящих сердец, которые устремляются на помощь сердцам страждущим, оборачивается опасной силой, губительной для тех, кому хотят помочь: вспомним историю с «Ковчегом Зоэ» в Дарфуре в 2007 году — попытку вывезти из Чада во Францию 103 ребенка, чтобы спасти их от суданской трагедии, хотя эти дети не были сиротами и не подвергались опасности.