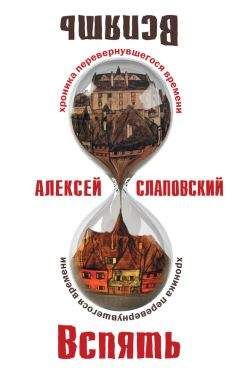Но все больше — к сожалению, все больше и больше — становилось людей, не верящих, что прежнее время вернется. Они бросили свои занятия и либо разнообразно бездельничали и пытались развлечь себя, либо без конца обсуждали судьбы народа и родины, как это у нас принято.
Или выясняли личные отношения.
Игорь Анатольевич Столпцов и Петр Сергеевич Перевощиков убедились в тщетности попыток отомстить за своих детей в законном или каком ином порядке. Но зато у них была возможность высказать друг другу претензии, которые накопились за время совместной работы.
Повод находился легко. Например, Столпцов, проезжая на комбинат, видел строящуюся дорогу (которая становилась все короче), звонил Перевощикову и говорил:
— Бюджетные деньги закапывают твои рабочие, Петр Сергеевич, асфальт на сырой песок кладут. Вот почему дорога через месяц вся в колдобинах стала!
— А ты раньше этого не видел? Бюджетные деньги тебя беспокоят? А я тебя просил помочь из средств ГОПа, ты мне что сказал?
— Что сказал?
— Не помнишь?
— Не помню.
— А ты заезжай, я тебе напомню, чего по телефону переругиваться?
И Столпцов заезжал к Перевощикову в администрацию, где ждали его уже коньяк и нелицеприятный разговор.
— Ты пришлый человек, Игорь, ты временщик, тебе наплевать на наш город! — выговаривал Столпцову Перевощиков.
— Сам тут без году неделя. А управленец из тебя никакой, у тебя под носом всё разворовывают, если с тобой, конечно, не делятся.
— А ты видел?
— Петр Сергеевич, имей совесть, я сам с тобой делюсь!
— Это еще неизвестно, кто с кем делится, учитывая, что твой ГОП на нашей земле стоит!
— Как же неизвестно? С Гедимином Львовичем мы все делимся. Кстати, что-то он не звонит.
Милозверев действительно не звонил: он был на Канарах в двухнедельном отпуске с молодой красивой женщиной, но не женой, заехал туда двадцать девятого и, следовательно, до пятнадцатого мог блаженствовать. В прошлый раз красотка его основательно растрясла, к исходу отпуска на кредитках оставалось всего ничего, десять с чем-то тысяч евро, но зато теперь деньги каждый день прибавлялись, наряды и украшения с красотки слетали, Милозверева это очень веселило.
Столпцов и Перевощиков продолжали ссориться.
— Ты мне, Игорь, с первого дня не понравился, — говорил Перевощиков. — Я сразу понял, что ты мужик от сохи, так и оказалось. Ни полета, ни выдумки. И сын у тебя такой же, хоть в Америке учился.
— Тебе и Америка теперь не нравится? — усмехался Столпцов.
— Представь себе, нет. И капитализм ваш не нравится.
— Почему же это он наш?
— А чей же? Я частной деятельностью не занимался, сразу пошел по общественной линии.
— Все дармоеды и нахлебники, кто дела делать не хотел, пошли по общественной линии, — отмахивался Столпцов.
— Ты вор! — неожиданно перескакивал Перевощиков.
— Да, вор, но ворую свое. А ты чужое! — отбивался Столпцов.
— Как раз оно мое, потому что я тут родился, в смысле в Придонщине, хоть и не в Рупьевске, а ты пришлый, и ничего твоего тут нет!
— Нет ничего моего и твоего, всё — общее. Божье! — теперь уже сворачивал Столпцов.
— Согласен. Но ты-то тут при чем, если в Бога не веруешь?
— Я не верую, другие веруют. Народ, люди. Да и ты сам все время говоришь, что веруешь.
— Конечно! — соглашался Перевощиков.
— А докажи! — приставал Столпцов.
— Этого не докажешь, — отвечал Перевощиков.
— А что не докажешь, я тому верить не обязан, — говорил Столпцов.
— А тебя никто и не просит вообще!
— Сам начал!
— Что я начал?
— Господи, и мне с таким дураком теперь столько лет работать! — восклицал Перевощиков. Или Столпцов. Запутаться нетрудно: при одной встрече так мог воскликнуть Столпцов, при другой — Перевощиков.
— Это я терпел и надеялся, что тебя уберут отсюда!
— Кого уберут, так в первую очередь тебя!
— Не надейся, не уберут! В ближайшем будущем, по крайней мере, то есть в ближайшем прошлом!
— И я с таким уродом еще породниться хотел!
— Да развелись бы они через месяц, потому что твой сын мизинца ноги моей дочери не стоит! — говорил Перевощиков.
— Мизинца? — хохотал Столпцов. — Видел я тот мизинец, когда мы купались прошлым летом, то есть этим — кривой и внутрь загнутый. Красота неописанная!
— Я, Игорь, и в морду могу дать.
— За что? За правду?
— Это не правда, а оскорбление.
— Даст он! — подначивал Столпцов. — Подтяжки не потеряй!
Перевощикову становилось невыносимо обидно, тем более что он никогда не носил подтяжек. И он, не в силах вытерпеть, давал в морду Столпцову. А тот отвечал. Начиналась драка. Секретарша Перевощикова испуганно приоткрывала дверь, не решаясь вмешиваться, да и как вмешаешься в битву двух тяжеловесных мужчин?
Как правило, через несколько минут выдыхались, садились в кресла, сипя и хрипя, поправлялись коньяком, ощупывали синяки и ушибы, которые болели, но не очень сильно, даже если были серьезными: мысль о том, что завтра все пройдет, уменьшала боль.
Так они встречались изо дня в день, изливая друг на друга накопившуюся неприязнь, и уже не могли жить без этих встреч.
И многие, очень многие и в Рупьевске, и по всей России, и по всему миру, занялись выяснением отношений, потому что делать все равно было нечего. Люди как никогда занялись друг другом, и не всегда это оказывалось приятно.
Воскресший Геннадий Васильевич поедом ел Ирину Ивановну, будто она виновата, что он вернулся к жизни.
— Я-то думал — отмучился, — кашлял и стонал он, — а теперь всё заново!
— Не гневи Бога, — кротко отвечала Ирина Ивановна. — Через год-другой тебе полегче станет, а потом совсем выздоровеешь.
— Пока я выздоровею, триста раз помру.
— Теперь уже не помрешь.
— Да? А что сын говорил, слышала? Что может все опять назад повернуться, но неизвестно когда! Это, значит, что если я года два или три буду чуркой лежать, а потом все повернется, то потом опять три года мучайся, пока снова не сдохнешь? Три срока получается? Ни за какие преступления столько не дают! Болит все, Ира, не могу, вколи что-нибудь!
Ирина Ивановна вкалывала обезболивающее, муж на время утихал, а потом вновь начинал роптать, ругать жену, капризничал. А она, несмотря ни на что, продолжала чувствовать себя счастливой, и даже счастливей прежнего: теперь могла быть с ним рядом постоянно. На почту ходить не нужно, ее закрыли за ненадобностью: письма и посылки, ушедшие раньше, оказывались в помещении сортировки, а потом и вовсе исчезали, потому что люди, которые раньше отправляли посылки, письма и телеграммы, теперь не появлялись на почте — все равно ничего никуда не дойдет.
Илья пытался говорить с отцом так, словно ничего не произошло, но Геннадия Васильевича это раздражало.
— Ты с кем говоришь? — кашлял и кричал он. — Я покойник! Нечего мне тут среди вас делать! Умер, всех избавил, а теперь делают вид, что радуются!
— Пап, ты зря. Я и вправду рад, — говорил Илья с улыбкой, не сходившей в последнее время с его лица, потому что он каждый день встречался с Анастасией, хоть и ревновал ее слегка: в полночь она частенько оказывалась с Анатолием.
Правда, уверяла, что ничего не было.
Заходила племянница Наталья, жаловалась на бывшего мужа Сергея. Тот, выгнанный Натальей в начале июня, уехал к родителям в далекий, слава богу, городок Чмонино, устроился там в небольшую транспортную компанию грузчиком, а потом сделался даже бригадиром, начал зарабатывать. И вот теперь повадился приезжать в гости. От Чмонина до Рупьевска езды почти день, Сергей выезжал утром, прибывал к вечеру и до полуночи тиранил Наталью, рассказывая, как он отыграется, когда вернется назад окончательно. Хвастал деньгами, дразнил, что такого мужика чуть не потеряла.
— Пилит и пилит, — жаловалась Наталья, — хоть беги, но он ребенка замучает тогда, у Виталика и так уже голова дергается. Хоть ночью исчезает, на том спасибо. А два-три дня проходит, опять прикатывает. Я уже этого июня как конца света жду.
— Конец света давно наступил! — говорил из своего угла Геннадий Васильевич. — А вы еще не поняли?
— Не говори зря, — терпеливо укоряла Ирина Ивановна. — Пока мы живы, никакого конца света нет.
— А кто вам сказал, что вы живы? Может, мы все снимся друг другу?
Ирина Ивановна и Наталья переглядывались. Им тоже иногда казалось, что происходящее слишком похоже на сон. Но никак не проснуться, вот беда.
Зато у Влади Корналёва жизнь была как бы в двух измерениях. Он вернулся к жене и сыну, проводил день в семье, но, поскольку полтора месяца до этого прожил на съемной квартире, в полночь оказывался там. Это показалось ему очень удобно: днем как бы женат, ночью как бы свободный человек. Галина, правда, настаивала сначала на том, чтобы он, оказавшись в другом месте, тут же шел обратно домой, но Владя резонно возразил, что он, живя один, вел здоровый образ жизни и в полночь обычно спал.