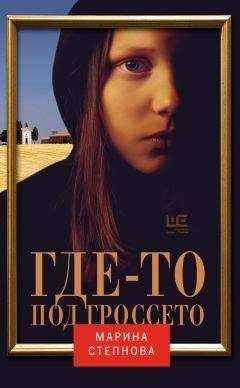На холодильнике, прижатая пузатой сувенирной матрешкой (только она могла догадаться привезти такую дрянь), висела записка.
Покорми, пожалуйста, Гитлера.
Он понял – сразу, махом, точно налетел лицом на не видимую в темноте ветку. И ее худобу, жалкую, невозможную, особенно торчащий сзади, на шее, острый, как камешек, позвонок. И то, как она смотрела на розы. И то, как плакала ночью в комнате – среди разбросанных, расползшихся по углам маленьких вещей.
Попрощаться! Господи. Попрощаться, идиот!
Копотов вдруг всхлипнул, рывком распахнул шкаф, еще шкаф, холодильник – здоровая разноцветная еда в красивых упаковках, обезжиренная, без сахара и холестерола, богатая клетчаткой, не содержащая ГМО, – коты такого не жрут, и правильно делают. Копотов выхватил наконец коробку сухого корма, громыхнул – слава богу, осталось еще, и сразу почти увидел припрятанное в уголке. Консервы, тоже кошачьи. Сложены аккуратным зиккуратом. Самые дорогие. Он отказался покупать – еще не хватало! Тунец в сливочном соусе. Кролик с креветками. Я себе такое позволить не могу! Когда успела? На что? Копотов с острым, жарким чувством стыда вспомнил, как она копалась в кошельке, шевеля губами, – всё пыталась перевести евро в рубли. Кем она вообще работала? На что жила? Что делала, когда закончились все эти Костики, Виталики и Коти? Когда все ее бросили? Разлюбили? Все. Даже он сам.
Единственный, кто у нее остался, – этот чертов Гитлер.
Копотов распахнул дверь – кота не было. Гитлер, – окликнул Копотов негромко. В живой изгороди что-то шуркнуло и затихло. Копотов громыхнул коробкой с кормом. Гитлер! Эй! Жрать хочешь? Нет ответа. Копотов пересек крошечный дворик, заглянул под черные глянцевитые кусты, хлопнул калиткой и оказался на улице, праздничной, заграничной, ночной. Румяные, уютные фонари. Пряничные домики. Сахаристая изморозь. Рождество. Гензель и Гретель. Самое безопасное место в мире. Как в детстве. Только совершенно, совершенно чужое. Чур, я в домике. Это она так говорила – чур, я в домике. Дурочка, вечно пряталась в одно и то же место – под обеденный стол. Сидела там, занавесившись тяжелой скатертью. Маленькая, теплая, доверчивая. Ахала восторженно: как ты меня нашел? Из роддома приехала в розовом атласном одеяльце. Как Копотов боялся, что ее украдут! Хорошенькая, как кукла. Веселая. Бежала на толстых ножках, смелась колокольчиком. Бабуля ее так и звала – Колокошка. На улице все оборачивались, улыбались. Точно украдут! Цыгане. Вот же дура! Копотов сгребал ее в охапку, прижимал к себе, трясясь от нежности и злости.
Ты кого любишь больше всех на свете? Никогда не задумывалась даже. Саню!
Копотов вдруг побежал, не замечая, что плачет, вообще ничего не замечая. Гитлер! – орал он по-русски. – Гитлер! Гитлер! В пряничных домиках засуетились. Захлопали там и тут двери, загомонили удивленные, негодующие голоса. Копотов заметался среди грубых лающих фраз, виляя, уворачиваясь, шарахнулся от чьей-то красной морды, не признав соседа, милейшего, деликатного, совершенно одинокого. Как и он сам. Как он сам.
Гитлер! Гитлер! Пустите, суки! Да Гитлер же!
Из-за угла уже выворачивала хищный нос полицейская машина, вырывая из темноты то синие, то белые сполохи, и крик сирены, истошный, отчаянный, на мгновение заглушил Копотова и снаружи, и внутри.
Кто-то наступил на упавшую коробку с кошачьим кормом и машинально извинился.
Гитлер пришел только утром. И следующим тоже. И после следующего. Долго и терпеливо сидел у закрытой двери. Никак не мог смириться. Еще через месяц дом сдали веселой, крепкой паре, белобрысой и счастливой до полной потери половых различий. Непохожей была только такса – в отличие от хозяев длинная, черная и гнутая, как обгорелая спичка. Таксу звали Ева.
Гитлер всего один раз посмотрел на нее из-под вечно живых лавровых кустов.
И тоже исчез.
Рыбушкина Наталия Владимировна, 15.7.1855, дочь инженер-технолога, коллежского секретаря Владимира Александровича Рыбушкина (православного вероисповедания) и его законной жены Надежды Леонидовны (лютеранского вероисповедания). Восприемники: инженер-механик, надворный советник Николай Николаевич Зяблов, капитан 2-го Уссурийского железнодорожного батальона Василий Степанович Мещеряков и жена личного почетного гражданина Амалия Федоровна Аделунг (метрич. кн. Архангельской церкви).
В церкви было душно. Амалия Федоровна, полная, кислая, прела в громких парадных шелках и шепотом проклинала старенького священника, медлительно осуществлявшего свое медлительное таинство. Гневила, старая дура, Бога. Помазуется раба Божия Наталия елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Ну, наконец-то! Аминь! Зудели мухи, отец, затянутый в отлично вычищенный мундир инженера и атеиста, вполголоса обсуждал дела с дядей Колей Зябловым, и только маменька всё время улыбалась, как будто действительно понимала, что происходит, – и пот у нее на верхней губе был щекотный и совсем-совсем золотой. Когда приобщенную и новообращенную рабу божию понесли наконец домой, небо над городом потемнело и с коротким полотняным хрустом разорвалось. Отец, панически боявшийся инфлюэнцы, выхватил увесистую розовую Тусю у Амалии Федоровны и побежал вдоль улицы, высоко задирая худые неловкие ноги и пытаясь фуражкой прикрыть дочь от первых капель, которые тяжело запрыгали по дороге, на мгновение обрастая пушистой пылью, – словно ртутные шарики, закатившиеся под диван…
Нет, всего этого Туся, конечно, не помнила – не могла. Метрики – ее собственная, трех братиков (умер волей Божией, скончался от чахотки, убит), купчие, родительские письма и бумаги – всё лежало на самом дне большой, на три отделения (одно – потайное), шкатулки, которая всегда стояла у матери в кабинете, а потом, повинуясь неминуемому ходу времени, переехала к Тусе. Материн кабинет превратился сперва в будуар восторженной, при каждом шаге шуршащей молоденькой новобрачной, потом в детскую, а затем снова стал кабинетом – но уже ее, Тусиным, совсем-совсем взрослым, а потом маменька умерла. И шкатулку, слой за слоем, стала заполнять уже Тусина жизнь.
Милая Тусинька, сердечно поздравляю с днем ангела! Твоя навеки, до гроба единственная подруга Анна.
Ссорились они, правда, ужасно. По тридцать три раза на дню. Оспаривали первенство. Анечка, единственная дочь дяди Коли Зяблова, балованная, вспыльчивая, крупная девочка, родилась на два месяца раньше Туси и считала это своим несомненным преимуществом. Ей всё должно было доставаться первой – по старшинству: и сливочное пирожное, и Тусина кукла, и лучшая картинка в книжке. Они перелистывали «Ниву» взапуски, крича – чур, что слева, то мое! – и незадачливой Тусе вечно доставалось какое-нибудь уродское развитие зубов тритона (по схематич. модели автора), а довольная Анечка становилась обладательницей прелестной гравюры с картины Амберга «У решетки», на которой томная барышня с распущенными, как у самой Анечки, невесомыми кудряшками преклоняла цветущий стан через кованую оградку, чтобы напечатлеть целомудренный поцелуй на челе курчавого франта в долгополом, пышно присборенном на заду сюртуке. Я и замуж выйду вперед тебя, – угрожала Анечка, водя по франту пальцем, перепачканным только что украденной в оранжерейке клубникой, – вот увидишь – первая! Потому что я красотка и душенька! Так все говорят. Туся, давясь обидой и завистью, изо всей силы толкала лучшую, до гроба, единственную подругу в теплый, как тесто, обильный бок. Кудряшек у Туси не было – так, небогатая косица едва до лопаток. И нос, как говорил отец, утицей.
Всё-всё сбылось, как Анечка и грозила. И замуж она вышла первая, и первая приехала с первым взрослым визитом, и первая умерла двадцати четырех лет – от воспаления легких: в субботу еще жаловалась за чаем, что жарко что-то у вас, Туся, вели, пожалуйста, открыть окно, блестела глазами, смеялась – а помнишь, а помнишь? – пока их мужья азартно коротали вечность за картами, а через вторник уже лежала, обиженная, поджав бледные губы, в гробу, и всё тот же старенький священник, что крестил когда-то и Тусю, и саму Анечку, и еще добрую половину города, выпевал утешительным бабьим тенорком – истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Туся плакала и не верила – тогда модно было не верить, а потом снова все поверили, только не в Бога уже, а черт знает во что: она сама крутила столики, рассуждала о надмирном, срывала миги и даже ездила в Москву – специально для того, чтобы послушать Скрябина; и долго-долго даже себе не признавалась, какая это скверная, тревожная, нарочито больная музыка. То ли дело Лист!
И что же? Анечка вот уже тридцать восемь лет лежит на кладбище за решеткой – почти такой же, как на картинке из «Нивы», а она сама сидит тут одна, в темноте, за заколоченными окнами, не различая, утро уже, день или вечер, и только шарит вокруг руками, шарит и ничего не находит. Ничего не может понять.