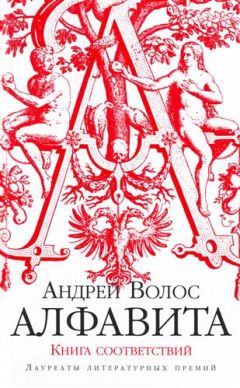И никакого мошенства.
— Целая, — хладнокровно сказал я.
Фокусник удивился.
— Что? Мальчик, смотри внимательней! Какая карта?
— Целая! — бессердечно настаивал я, глядя на ее обрывки.
Фокусник совершенно потерял лицо.
— Да нет же, мальчик! — смятенно воскликнул он. — Ну как же целая, когда рваная?!
— Целая!
В зале зароптали.
Он обжег меня злым взглядом — и тоже успокоился.
Девочка говорила то, что видела. Я говорил не то, что видел, а повторял за девочкой. Она — «рваная», и я — «рваная». Она — «целая», и я туда же… То есть благодаря моим усилиям эффективность его дурацкого фокуса была снижена как минимум вдвое. Но все-таки ему удалось убедить зал, что мы совершенные придурки и сами не знаем, что несем.
И я до сих пор жалею об этом. Ведь у нас был шанс с блеском разоблачить его глупые уловки!
Конечно, если бы эта дура с бантом была чуть сообразительней…
Не пожалею я поклону
Для родины одеколону!
Русская народная песня.
Фрадкин живет на окраине города Кельна.
В непосредственной близости от его дома расположено некое учреждение
Бундесвера — внушительное многоэтажное здание с огороженным двором и всеми полагающимися прибамбасами. Не будем приводить его точное название. Только намекнем: что-то вроде Академии Генштаба. Или
Академии имени Фрунзе, если опереться на соответствующие наши аналоги. Или Штаба командования сухопутных сил. Короче говоря, серьезная организация, не семечками торгуют.
Как-то раз, шагая мимо ворот этого заведения к автобусной остановке,
Фрадкин неожиданно увидел российского офицера. Обычно там толклись весело гогочущие немецкие вояки. А тут — нормальный монголоидный капитан в нормальной форме отечественных вооруженных сил с нормальными знаками различия. Должно быть, он приехал по межгосударственному обмену. Капитан, скажем, отсюдова туда, в не до конца проясненную контору возле дома Фрадкина, а его коллега — оттудова сюда, в натуральную Академию имени Фрунзе.
Капитан покуривал и хмуро озирался. На его скуластом лице было отчетливо написано, что здесь, на чужбине, он чувствует себя немного не в своей тарелке. И ничего хорошего не ждет. Да и впрямь, как вдуматься. Языка не знает. Обычаев — тоже не знает. Ну вот шагают тут по улицам люди. Одеты вроде прилично. В очочках. А ведь все они — немцы!
Ни поговорить с кем, ни словцом перекинуться. И вообще неизвестно, что у них на уме. Что вот они тут ходят? А вдруг не просто так они тут ходят?..
В общем, полный туман и пугающие непонятки. Того и гляди, проколешься. А тогда на родине ни звания очередного, ни должности приличной!..
Проходя мимо, Фрадкин заговорщицки подмигнул и спросил:
— Что? Наши УЖЕ в городе?
По его словам, бедный капитан рассыпал сигареты и так шарахнулся, что чуть не упал.
«Хельгой» изначально назывался сервант то ли немецкого, то ли польского производства. Потом их стали производить на одной из московских мебельных фабрик. «Хельга» несколько потускнела и осунулась, но популярности не утратила.
Я работал в институте и получал зарплату. Зарплаты не хватало. Время от времени я пытался подработать.
Олег Иванов и его напарник Коля ездили на большом грузовике-фургоне.
Меня Олег брал третьим. Не знаю, зачем. Пользы от меня, на мой взгляд, было мало. Мы колесили по Москве из конца в конец. Я им пел песни, а то еще читал стихи. Коля хмыкал, Олег ликовал, на светофорах, бросив баранку, бил меня лапой по плечу — еще давай!.. В промежутках внимательно изучали доставочный лист.
— Первый! — орал Иванов. — Переадресовка! Бля буду — переадресовка!.. Заработаем, мужики!
Приобрести сервант «Хельга» законным образом мог только житель Москвы. Житель Подольска или Гжели шел на ухищрения: договаривался с родственником-москвичом, тот записывался, через год покупал вожделенную подольчанином вещь и оплачивал доставку — разумеется, на первый этаж, чтоб не тратить лишнего: ведь все равно же прямо от подъезда таранить ее бог весть куда!..
— Не-е-ет! — ревел Олег, широко отмахиваясь. — Да не возим мы в Подольск! Да вы че! Нас менты за кольцевой повяжут! Какой, на хер, Подольск!.. Сколько?! Тридцать рублей?! Да вы че, мужики! Семьдесят! Семьдесят, я сказал! Че?! Коля! А ну давай сгружать ее на хер! Пару часиков на морозце постоит — и развалится! Будут знать!..
После этого события могли развиваться двояко. В первом случае непременно присутствующая жена с визгом бросалась на жадину мужа, и через пять минут мы уже весело катили в Подольск. Во втором хмурый
Иванов яростно матерился, крутил баранку и втыкал заднюю передачу с хрустом, похожим на звук раскалывающейся коленной чашечки.
— Во, бля! — бормотал он, когда мы выезжали из двора. — Тридцатки пожалели! Да она у них на морозе-то вся по досточкам разойдется!
Вишь, как заворачивает!..
— Может, надо было бы, а, — неуверенно бубнил я, представляя их серые растерянные лица возле криво стоящего на снегу серванта «Хельга». — Ведь правда развалится… Может, у них и денег-то таких нет…
— Денег нет? — изумлялся Иванов, веселея. — А ты не покупай, коли денег нет! Нет денег — сиди в своем Подольске и не высовывайся! Мы же на чужом горе наживаемся! — пуще веселел Олег Иванов, невзначай меня поучая. — У нас же работа такая! Верно я говорю, Колян?
Колян кивал. Он вообще был немногословен. Иногда только заводил разговор о двух своих сыновьях, называя их чапаевцами. Он был пропащим алкоголиком, этот Колян. И не мог проявить такую силу и напряжение духа, на какое был способен Иванов. При лобовом столкновении Колян явственно скисал, и было видно, что ему страшно хочется припасть к стакану.
Зато он умел войти в коридор и быстрой пощупкой растопыренной грязной ладони начать промерять стены и проходы. Постепенно выражение его лица из озабоченного превращалось в огорченное.
— Нет, не пройдет! — махал он рукой. — Разбирать надо… где инструмент?
И, вооружившись клыкастым железом и паучьи растопырившись, недобро подступал к сияющей стеклом вещи.
— Соколики! — голосил клиент, закрывая добро телом. — Не надо, милые! Вот вам десяточка, ласковые мои! Христом-богом молю — не разбирайте!
Стоит ли объяснять, что, каким бы узким ни был коридор, десяточка всегда оказывала свое волшебное действие: сервант «Хельга» подбирал живот, вбирал голову в плечи, вообще весь несколько ужимался — и проходил!
Знавал я одного художника. В качестве натуры он почему-то отдавал предпочтение быкам. При этом ему никак нельзя было отказать в изобретательности.
Например, он брал большой толстый кусок поролона и начинал художественно жечь его спичками. В их коптящем пламени поролон неровно плавился. В конце концов получалось произведение искусства, представлявшее собой сильно пожженный кусок поролона. Автор утверждал, что в конфигурации проплавившихся мест можно угадать очертания быка. Лично у меня на это никогда не хватало воображения, но так или иначе, артефакт имел название «Бык».
Или он брал другой кусок толстого поролона (первый был безнадежно испорчен предыдущим «Быком») и ставил на него рядышком два горячих утюга. Поролон, разумеется, плавился — именно по форме этих утюгов.
Эта вещь тоже называлась «Бык». Из-за нее чуть не случился скандал и драка на каком-то аукционе.
Однажды, заглянув на его выставку, я долго присматривался к полотну, изображавшему кошку. Кошка, пребывавшая в последней стадии озверения, была решена простыми и выразительными средствами — гуашью, что ли, — на куске картона. Окровавленная морда припавшей к земле взбесившейся кошки была страшна и живописна. Вся в целом она выступала из чересполосицы неряшливых линий, на первый взгляд казавшихся случайными, — большей частью черных. Кровь, капавшая с морды зверя, забрызгала и когти, и спину. Судя по всему, кошка завершила какой-то дикий, смертельный прыжок, наверняка унесший чью-то жизнь, и теперь, припав на лапы, готовилась унести вторую.
Когда художник подошел ко мне, я сказал, что картина «Кошка» мне понравилась больше других, и если бы у меня были деньги, я всерьез задумался бы о ее приобретении.
— Какая еще «Кошка»? — недоуменно спросил он.
Я показал.
— Это никакая не «Кошка», — недовольно сказал художник. — Какая еще, к черту, «Кошка»! Ты ослеп? Это «Бык», — по-моему, понятно!.. Там и подпись есть… Да, бык… но молодой еще… теленок как бы.
И, обиженно качая головой, направился беседовать с очередным покупателем.
В отличие от кофе (см.), употребление которого предполагает европейский стиль мышления и жизни, чай самой природой назначен для утоления жажды в Азии. Поэтому мне кажется странным, что здесь, в пределах нашей страны, находятся люди, рискующие пить кофе. На мой взгляд, столь резкий диссонанс между натурой — конечно же, совершенно азиатской! — и тем, чем ее потчуют, не может не вызвать отрыжки, икоты или, чего доброго, бессонницы.