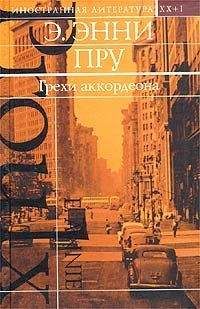Наугад
Они пересекли зимнюю границу поздно ночью, по глухой тропе. Ее брат, храня на индейском лице хмурую мину, иногда сменявшуюся резкими улыбками, встретил их на другой стороне и провел к небольшому домику, где они полчаса отогревались перед последним отрезком пути; то была настоящая лачуга, крошечная, затерянная в снегу хибарка какого-то незнакомца, труба над крышей выпускала в ночь искры. Замурзанные дети выглядывали из рваных одеял, взрослые выпили по чашке горького кофе и вместе с братом двинулись дальше на подбитых гвоздями санях, которые тянули две лошади.
Они ехали сквозь поросшее темными кедрами болото, и Дельфин, и Шарлю оно казалось громадным и страшным. Тяжелый древесный аромат напоминал Дельфин о болезнях, испарине и припарках, а ветер шуршал в иголках зловещим голосом безграничного леса. Шарль видел, что шурин не особенно радуется их появлению, и весь пылал от унизительной мысли, что, сам того не зная, связался с женщиной из второсортной семьи. Он злобно перешептывался с Дельфин. Та отказывалась признавать индейскую кровь, брат просто смуглый, только и всего. И, не считая прерывистых всхрапов лошадей, глухого стука копыт об утоптанный снег и посвистывания сосен, вокруг стояла обиженная тишина.
Они привыкали к новому месту – тесному дому брата, грубым окрикам на американском языке и обрубкам французского. Едва скопив денег, они сняли халупу с низким потолком и керосиновыми лампами. Перебирались в пронизывающе-холодный день. Шарль толкнул ногой дверь, вошел внутрь, остановился, воскликнул:
– Mais non [168]! – и опустил на пол вязанку дров. Дельфин стояла у него за спиной с ребенком на руках и не сводила глаз с разложившегося скелета повешенной на стене кошки – в тех местах, где животное отчаянно царапало стену, штукатурка была содрана до деревянных реек.
Каждое утро Дельфин рубила в ручье лед, набирала воды и скользила к дому по обледенелой тропинке, затем мокрая от брызг и слез вваливалась в кухню и клялась, что будет держать своих детей в чистоте, даже если за это придется заплатить жизнью. Она с отвращением вспоминала ирландское семейство, что поселилось около помойки, в хижине из канистр от машинного масла «Тритон»: осенью эти невежественные иммигранты зашивали на своих детях одежду, а в июне, словно кожуру, сдирали с них прилипшие тряпки. Прошел год, другой, потом еще два, и вместе с близнецами у них теперь было шестеро детей. Они так и жили в Рандоме, побоявшись двинуться вслед за братом Дельфин, которого Шарль называл Вождь Уорбоннет[169], – тот перебрался на Род-Айленд работать на фабрике шерсти – дети подросли и могли тоже приносить домой деньги. Так Ганьоны остались одни в чужом лесу. Чарльз проклинал эту грязную, холодную, засиженную мухами страну, с тоской вспоминал об утраченной жизни, улицах, музыке и вине. Он клял Жо Прива, которому достались все счастливые билеты.
Если ад похож на раскаленный мюзик-холл, думал он, где дьявольской какофонией скребутся и вопят расстроенные инструменты, а среди хаоса и грохота скачут изувеченные черти, то всякий раз, являясь на фабрику ящиков, он входил через заднюю дверь в l'inferne [170]. Стучали и гремели механизмы, металл сталкивался с визжащим металлом, над головой рычали приводные ремни, в воздухе стояла мелкая пыль. Нужно было или привыкать, или уходить. Он стоял у пресса для досок, через которые с визгом проползали деревяшки, и бригадир-янки не спускал с него глаз. Полтора доллара в день за пятнадцать часов работы, и будь доволен, что есть хотя бы это. Вечерами его хватало лишь на то, чтобы затолкать в рот неважно какую еду и уснуть. По субботам он напивался, бранился, размахивал кулаками, а ночью карабкался на Дельфин. Только чтобы расслабиться – безжалостно объяснял он ей. Желать ее может только слепой – слепой с затычками в носу и перчатками на руках, поскольку от нее воняет, а кожа грубая, как у крокодила. Нужно было любой ценой заставить ее с ним считаться. В воскресенье он просыпался после полудня, заливал похмелье новой порцией виски – вина в этой несчастной стране не водилось, – и тут наступала пора аккордеона, его можно было достать из футляра и негнущимися после досок пальцами сыграть «Розу на жимолости», помечтать о клубах и о блестящих в свете уличных фонарей булыжных мостовых.
Рандом стал новым доказательством его черной звезды. Ганьона дурачили и надували с того самого дня, когда проклятая мать туго скрутила проволочной вешалкой его руки, и толкнула – сначала на набережную, а потом в мутную Сену; ему пришлось бежать в Квебек, где люди пережевывают язык в размазанную кашу, и где его обманом – да, обманом – женили на отвратительной краснокожей бабе и, опять обманом, заманили в Мэн, эту грубую провинциальную дыру. Очередное доказательство он получил весной 1937 года, когда строгальный станок отрубил ему на правой руке три пальца, а сильно порезанный указательный через несколько дней распух и позеленел от инфекции.
В два часа ночи приехал доктор и, бросив косой взгляд на руку, сказал, что керосиновая лампа бесполезна, и под ней ничего не видно. Он вышел во двор, подогнал свой «бьюик» к кухонным окнам и в свете фар осмотрел оставшийся палец.
– Нужно резать.
Шарль не понимал, как это произошло; все случилось само собой в одну из минут, отличимых от миллиона лишь тем, что все остальные закончились вполне благополучно.
Он поправлялся медленно, на руке остались розовые болезненные обрубки. Семья получала пособие – раз в неделю ящик с продуктами: мука с долгоносиком, банка топленого сала и мешочек фасоли. Ящичная фабрика неожиданно закрылась, и всех, кто там работал, выбросили на улицу, украв недельную зарплату, поскольку хозяин задерживал чеки. Люди исчезали в ночи, перебираясь в Вунсакет, Потукет, Манчестер, на шерстяные, хлопковые, шелковые или обувные фабрики, где у них были родственники и могли хоть чем-то помочь.
Шарль проклинал свою жизнь, угрюмую природу, что насылала на них беду за бедой, вскрывая тем самым свою злобную сущность. Лишь раз после того несчастного случая, он достал аккордеон и попытался играть, повернув инструмент вверх ногами, чтобы левой рукой нажимать на кнопки, но собственная неуклюжесть быстро довела его до белого каления, и он в наказание стал пихать le maudit instrument [171] в печь – тот застрял, треснул, пришлось проталкивать кочергой, но так и не пролез. Дельфин вытащила аккордеон из печи и выбросила во двор. Догорая, он сильно дымил. Утром она принесла инструмент обратно, завернула в коричневую бумагу и поставила на полку.
Этой зимой Дельфин стала ходить во сне – босиком по снегу. Когда она возвращалась, ступни напоминали красную ваксу, а подол ночной рубашки покрывали кристаллики льда. Однажды ночью, когда снег покраснел в лучах северного сияния, Шарль объявил, что поедет в Бангор искать работу – специальную работу для одноруких. Рано утром он вышел из лачуги. К концу недели жена узнала, что он уехал навсегда, обратно во Францию – забыть эту жизнь, семью и наполовину выученный язык. Самому младшему, Долору, исполнилось два года.
(Когда во Франции разразилась Вторая Мировая война, Шарль вступил в Сопротивление и стал курьером; в безлунную ночь его серьезно ранили, он упал с велосипеда, прополз десять миль на руках и коленях, но все-таки доставил сообщение, которое, как потом выяснилось, было не таким уж важным. Внезапно он переметнулся к коллаборационистам и несколько раз участвовал в рейдах против zazou [172]: с парой садовых ножниц наизготовку прятался в тени у свинговых ночных клубов, чтобы состричь догола «помпадуры», эти высокие сальные прически, с голов самовлюбленных юнцов, как только те появятся на улице, возбужденные танцами «J'ai un clou dans ma chussure» [173]. И это называется музыка? Не джаз, а свинг, ничего кроме шума, идиоты-танцоры с выпученными глазами, щелкают пальцами, дергаются и скачут, словно мухи на сковородке. После войны он несколько лет болтался по ночным клубам, бегая по поручениям и подметая в предрассветные часы туалеты – заработанного хватало на шесть бутылок vin blanc [174], которые он выпивал ежедневно. В 1963 году он все еще работал в клубах, все еще подметал, пока однажды, полируя краны в гольф-клубе Дрюо, не упал с сердечным приступом под раковину и не умер в окружении синтетических носков и лодыжек юных «yé-yés».)
Что ей оставалось делать? Дельфин написала брату в Провиденс, хотя прекрасно знала, что он уехал на юг не столько из-за работы, сколько подальше от повисшего на нем семейства Ганьонов. Ну, приезжай, кисло ответил брат. Я пришлю тебе денег на автобус. Но всех детей брать нельзя. Жизнь слишком трудна. Только двоих старших. Они смогут работать. И ты тогда тоже найдешь себе место.