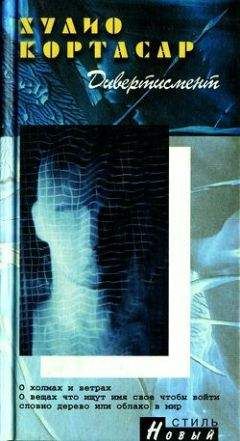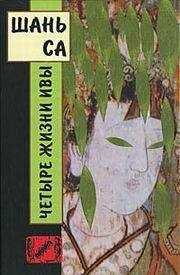— Так Франция тоже будет воевать? — как можно более игриво поинтересовался генерал.
— И Франция и Англия.
— И когда же эта война закончится?
— Через несколько лет. В восемнадцатом году.
— А кто победит?
— Франция и Англия победят Германию.
— А мы?
— А Германия нас.
Василий Васильевич откровенно засмеялся.
— Но это же нелепость! Мы союзники с Францией и Британией. Если они победят, значит, и мы тоже. Элементарная логика так диктует.
— История редко подчиняется законам элементарной логики, — вступился за жену профессор. Побарабанив удивленно по стопке газет — никак не мог понять, почему никто вместе с ним не смеется над этой курящей дурой, — Василий Васильевич попытался налить себе чаю.
— Мадера, — тихо подсказала Настя.
— Ах да. Кто–нибудь еще желает, господа? Вы, отец? Отлично.
Проглотив стакан темно–янтарного напитка и разметав привычным движением бакенбарды по щекам, генерал понял, что ему одному придется атаковать демагогический бастион, воздвигнутый этой самодовольной бабенкой. Поскольку лобовая атака не удалась, придется зайти с фланга.
— Ну, хорошо, дражайшая Зоя Вечеславовна.
— Разве я дрожу?
— Что? Ах да, я забыл, вы же словесный тоже человек. Но не это сейчас в центре. Так, в европейской войне мы разобрались, ладно. Я, видя всю вашу проницательность, обращусь с корыстной просьбой.
— Я жду.
— Хотелось бы, пользуясь обществом такого оракула,
спросить о своей судьбе. Личной.
Зоя Вечеславовна извиняющимся образом вздохнула.
— Что так, дража… дорогая?
— И «дорогая» не говорите, так богатые волжские купцы обращаются к содержанкам. Василий Васильевич прижал руки к груди:
— Каюсь.
— Про ваше личное будущее ничего сказать не могу.
— Почему? Я вам почти такой же родственник, как Афанасий Иванович.
— Дело в том, что ваше будущее никак не связано со Столешиным.
Генерал понимающе усмехнулся. Он как бы хотел сказать: «Вот, значит, для чего был разыгран весь этот спектакль с предсказаниями: чтобы лишний раз уколоть соперника в погоне за наследством».
— А ваше? А ваше будущее будет связано?
— Нет. — Зоя Вечеславовна равнодушно покачала головой. — Мы с Евгением Сергеевичем будем жить за границей после войны.
— Господа, господа, господин генерал, — опять вмешался судебный следователь, — я в ваших словах слышу нечто вроде иронии в адрес Зои Вечеславовны. Антон Николаевич был уверен, что генерал безжалостно издевается над самоуверенной и не вполне нормальной дамой. Почему же никто не считает своим долгом вступиться за нее?!
— Не знаю, кто там кого победит, но что касается войны… Посмотрели бы вы, что происходит на станции у нас. Все словно с ума посходили. Можно сказать, что мобилизация уже в известном смысле идет.
— Да, второй день там в буфете бедокурит Аркадий Васильевич. Уймут, а он опять. То плачет, то пьет. Генерал поморщился.
— Надо за ним послать кого–то.
— Саша ездил за ним, но он его не слушает. Драться полез, зуб выбил, — сообщила Настя. Василий Васильевич повернулся к следователю.
— Это уже по вашей части. Некому, что ли, его связать, запереть?!
— Помилуйте, — улыбнулся Антон Николаевич, — как можно господина Столешина связать. Хоть и студента. Но, с другой стороны, если вы хотите…
— Хочу, хочу и очень хочу!
Если вдуматься, Василий Васильевич, у вас еще более Неправильное представление о будущем, чем у Зои Вечеславовны.
Евгений Сергеевич достал папиросу из коробка, оставленного на столе женою, и закурил, причем сделал это умело. В его пальцах таилась ловкость старриного курильщика.
Антон Николаевич, отец Варсонофий и Саша ждали с интересом, каким образом профессор станет развивать тему. Ждал и генерал — в предвкушении того, как его антагонист будет терять свою научную репутацию на столь сомнительных путях, как рассуждения о природе времени.
— Мало того, что оно неправильное, оно еше одновременно и дикарское, детское. Только, извините, дикарь может с такой полнотой убеждения поклоняться такому примитивному идолу, как абсолютная непроницаемость будущего. И только ребенок может пребывать в полной безмятежности в связи с наличием такой веры. Не надо так торопливо краснеть, генерал. Ни в малейшей степени я не хочу вас оскорбить. И даже не мщу за ваши иронические нападки на Зою Вечеславовну. Она и так, без моего вмешательства, осталась выше ваших нападок, хотя и слегка нездорова, по–моему.
— Отчего же вы так настойчиво и определенно относитесь именно в мой адрес, герр профессор?
— Потому что вы — фигура, в наибольшей степени выражающая некую идею. Идею непроницаемости будущего. Скажем, наш уважаемый батюшка не годится на эту роль уже потому лишь, что принадлежит к организации, верховное учение которой, безусловно, отрицает эту непроницаемость. Не ходя далеко, можно указать хоть на «Откровение Иоанна Богослова», текст, в котором будущее описано весьма подробно. Правда, и невнятно. Прошу прощения, отец Варсонофий, ежели задел вас или Священное писание.
— Бог с вами, говорите что хотите, — усмехнулся батюшка, — ваше безбожие не моим осуждением будет наказано. Евгений Сергеевич совершенно серьезно поклонился ему.
— Что касается нашего молодого друга…
Саша, как всегда при обращении общего внимания на
его персону, покраснел.
— …то он по складу ума человек ищущий, и для него в принципе не заказаны никакие интеллектуальные пути. Хотя бы они и вели в самое будущее.
— Что же вы скажете обо мне? — спросили пунцовые губы.
— Я вас недостаточно знаю, господин Бобровников, для того, чтобы предпочесть господину генералу.
— Что ж, — Василий Васильевич плеснул себе мадеры, — пока мне нечего возразить. Но пора переходить к сути.
— Извольте! — Профессор поправил галстук и медленно погладил мертвенного цвета щеку. — Но, как вы, наверное, догадываетесь, разговор о будущем надобно начинать с разговора о прошлом. Что касается будущего, все мы примерно в равной степени уверены, что оно наступит, в отношении же прошлого средь людей большее разнообразие мнений и чувств. Прошлое для нас более недоступно, чем будущее. Нам оно явлено в виде какой–то свалки старых книг, жутко искалеченных или бездарно помпезных статуй, осыпающихся картин и особенного племени существ — стариков. Эти конные статуи стоят так, будто громадное чудо и честь — умереть. Но Бог с ним; слишком многие люди слишком много изучают то, чего, собственно, нет. Не будем присоединяться к безумцам и обманщикам, заставившим государство оплачивать их труд и считать их фантазии о несуществующем наукой. Сидящие за столом удивленно переглядывались.
— Поговорим о том, к чему имеем личное отношение. К той части времени, в которой жили сами, лично. Наша память свидетельствует — жили. Для невнимательного или бездарно–благоговейно настроенного ума оно, время, сохраненное в памяти, — нечто непрерывное и неуклонно последовательное. Но если всмотреться в начальный кусок частного, например, моего хроноса, начинаешь сомневаться в этом. Доказательствами того, что человек жил, служат смехотворнейшие вещи: фотографические снимки и рассказы родственников. О том, насколько вторые надежны, мы скоро поговорим. То, что принято называть сознанием, возникает в качестве «череды ярких вспышек», меж которыми лежат серые пустоты. Поскольку объяснить природу этих пустот немыслимо, вспышки эти от страха слипаются в нашем воспоминании. Необходимо немалое умственное усилие, чтобы разлепить их и на время рассмотрения хотя бы развести по соответствующим местам календаря. Кстати, существует некий инстинкт, заставляющий людей утверждать, что они помнят себя с невероятно раннего возраста, с трех месяцев, как граф Толстой. В этом вранье содержится тот же род бравады, что и в мальчишеском желании убедить приятелей, что первая женщина была познана им чуть ли не в младенчестве. Это все наивные попытки раздвинуть границы столь ограниченной жизни.
Генерал неловким движением повалил рюмку, но профессора это не сбило.
— Но рано или поздно наступает такой момент, от которого идет сплошная память. То есть возникает странная, ничем, даже субъективным чем–нибудь не подтверждаемая уверенность, что с такого, скажем, числа я сознательно проживал каждый день и час. Возникновение этой уверенности — одна из загадок, разгадка коих приближает к тайне личности, но которые разгаданы не будут. Может быть, с этого момента «приходящая» душа поселяется в данном теле постоянно.
Но нельзя отрицать, что под микроскопом непредвзятого внимания становится очевидным, что и эта часть памяти пятниста. Состоит она из конечного количества разных по размерам, интенсивности и глубине фрагментов. Мы не отыщем ничего, что доказывало бы непрерывное, последовательное сцепление секунд, минут, часов и дней. Вам знаком, безусловно, эффект вечеров совместного воспоминания. Скажем, встреча друзей после долгой разлуки спустя ряд лет после окончания гимназии. Вы же ловили себя на том, что три четверти «общих воспоминаний» общими отнюдь не являются. Вы рассказываете, как дрались вместе со своим другом против четверых хулиганов в городском саду и как вы заслонили вашего друга, когда тот был сбит с ног. И вдруг выясняется, что в его памяти это вы валялись на земле, а он героически кас прикрывал.