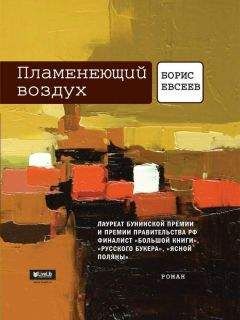Многоголосица требовала достойного, то бишь мастерского, запечатления в музыке. И не простого запечатления — а такого, которое связано с драматическими движениями ума и сердца. Вот только где взять сюжету для сего движенья?
И здесь солдатскому сыну вдруг улыбнулась едва ль не полковничья фортуна!
Всего через несколько дней по прибытии в Петербург, после давно замысленного, но с тайной робостью осуществленного посещения Петербургской Академии, где повстречался он с бывшими наставниками и старшими воспитанниками, пришел от статс-секретаря императрицы Храповицкого срочный наказ: явиться для получения важнейшего пакета.
Пешком, продуваемый насквозь морским предзимним ветром, в италианской нелепой одежде, чуть прикрывая от удивления раскосые азиатские глаза тяжелыми веками, вскидывая белесые чухонские бровки и повсякчас надувая щеки округлого русского лица, поспешал Фомин в указанное место.
Тут, близ подъезда для лиц низкого звания и лакеев, ждал его сурприз.
Встретился у подъезда друг. Друг пропавший, друг горько-радостный: Стягин.
Вид Стягин имел трепанный, глаза прятал. Росту своего высокого, орясина, стыдился. Был все так же арапист, смешил кадыком. Обрядился — как сам пояснил — в бурлацкую волжскую одежонку: куцый армяк, лапти, кушак-веревочка.
Денег друг Стягин не имел вовсе. За Евстигнеюшкой — признался он со слезами — следил уж третий день. А все отчего?
Несправедливость судьбы! Она преследовала Стягина беспрестанно. Побывал и за Волгой, и в азиятских кочевничьих землях скитался. Да не свезло. Едва не убили киргиз-кайсаки. Чуть жив в Петербург вернулся. Но считать не разучился и наук не забыл! Может, Есёк-богатенький, Есёк-чужеземный куды пристроит?
От стягинских неурядиц произошел конфуз несомненный, и конфуз страшный: вместо царского подъезда попал Евстигнеюшка в трактир на Песках. А там — опять цыгане!
Да не те, что в «Желтеньком»! Другие! Совсем недавно графом Орловым из Молдавии в Петербург доставленные.
Пляска цыганская ошеломила. Куда там «Желтенькому»! Куда разбойным калекам из пригородного трактира! Тут сразу видать: другие это цыгане, природные. Питером под себя не подмятые, деньгой не испорченные! Нечто подобное видал Евстигнеюшка на Венецианском карнавале, коим ездил любоваться в свой последний италианский год.
Как будто пламя обволокло танцующих! Ударило пламя и ему в ноздри. Далекая, загадочная жизнь, обволокла дымком дум.
— Оне же... Оне... Как те пляшущие фигуры Геркуланума!
— Что есть Геркуланум? — подражая ученой мудрости, задумался в голос друг Стягин. — Сам себе и ответил: — Геркуланум есть предшественник Санкт-Петербурга.
Евстигнеюшка на такое рассужденье только махнул рукой, соединился мысленно с пляской.
А вот пение здешних цыган ему не понравилось. Пощипывало пение, конечно, за сердце, однако тут же отвращало подвываньями и дешевыми вскриками. Для того ль вся европейская музыка существовала, чтобы таковую безвкусицу, таковую пестроту терпеть? Да и не по-русски пели...
Друг Стягин наседал с философией. Евстигнеюшка отмахивался. Становился средь цыганского гама угрюмей и угрюмей. Вдруг:
— А идем-ка за мною, сокол!
Тоже цыганка, но здешняя, питерская, новоприбывшим цыганам азы столичного житья-бытья тлумачащая. Зовут Глаша.
Прошли в задние комнаты. Угрюмство кончилось. Болезненности чувств — как не бывало.
Цыганская любовь короткая, быстрая. Отлюбил, ополоснулся, кочуй себе дальше!
Так и с Евстигнеюшкой.
Наутро обнаружил он себя далече от трактира, в бедном, наполовину обрушенном деревянном домишке. Там ни о каких цыганах слыхом не слыхивали и в глаза их не видывали. Пропал и друг Стягин, видно опять за Волгу подался, али того хуже — в киргиз-кайсацкую степь: чумную, опасную...
Вместе со Стягиным пропали и все Евстигнеевы денежки: семь с полтиною рублей да золотой венецианский цехин, носимый на счастье в нагрудном мешочке, чуть пониже креста.
Ночная гульба имела и иные неприятные последствия.
Явившись на другой день по вчерашнему господина Храповицкого вызову — получил он резкий выговор. Да не от самого Храповицкого, от его лакея!
Впрочем, пакет был тоже получен.
От выговора Фомина стошнило. Пакет захотелось бросить в воду.
Да как бросишь? И так-то господин Храповицкий гневается.
Уже и то хорошо, что лакей хитрый, лакей мытый-перемытый вдруг прищелкнул языком, утишив голос, спросил:
— У Глашки вчерась, сукин кот, ночевал?
— Ох, у Глашки...
— Как же-с. Доложили. Так ты тогда Храповицкого шибко не боись: он сам у ентой Глашки днями и ночами в позапрошлом годе околачивался. Теперь получше нашел. Ты это... хватай, что дадено, да гляди: все, о чем сказано, — сполни! И со сполненным в указанный срок прибудь. Иначе — не миновать тебе трепки. Так-то, соколик! Ну, неча тут с тобою долго калякать, — вдруг осерчал лакей. — Сгинь, горбатка!
Глава двадцать пятая «Боеслаевич»
Государыня императрица старилась медленно.
Она б и вовсе не старилась, когда б не наглые людишки, затраченных на них усилий отнюдь не оправдывающие, когда б не усложнившиеся дела империи!
Каждый год — морщинка от разбоев и казнокрадства. Каждый месяц — от волокит губернаторских. Каждый божий день печаль от вороватых лакеев, слезы от грубостей камердинера Попова. Как уж тут не состариться?
Утро государыня проводила полулежа. Зеркала ей теперь подавались малые, круглые и слегка отуманенные: не всё ныне следовало отражать, и показывать не всё надобно.
После кофию и производимого канцлером Безбородкой доклада наступал час размышления и обдумывания сочинений.
Сочинять государыня любила страстно. При том любила густое письмо.
Часто даже не самую мысль, а письменное ее выражение, облаченное в русское партикулярное начертание, любила. Вдоволь насладившись в юности начертаниями готическими, ближе к старости нашла она усладу в миротворящей кириллице.
Но и саму мысль, ее извороты и ее прямизну — любила матушка государыня крепко.
В зрелом возрасте всё — и вокруг нее, и в ней самой — стало вдруг провисать, никнуть. Только мысли оставались новенькими и свежими: без морщинок, без трещинок.
А при скорой и отчетливой мысли — какая же старость?
Вот, к примеру, перо. Бежит легко. Когда саморучно запишешь, когда надиктуешь. Раз-два-три, сбоку подотри, глядь — и готово!
«Так и надо, любезная Катеринхен, продолжай, продолжай же!..»
Русскою прозой государыня Екатерина изъяснялась не вполне правильно. Однако изъяснялась весьма доходчиво. Со стихами выходило похуже.
Впрочем, не одни стихи были плохи. Не слишком давалась государыне и музыка.
Но для сих двух искусств как раз и существовал господин Храповицкий.
Государыня императрица трижды тряхнула колокольцем: звон, звонче, з-з-з!
Вошел многое о себе в последние месяцы возомнивший грубиян Попов.
— Господин Храповицкий во дворец прибыли?
— А то. Битый час здесь пыль с портьер отряхает. Подслушивает небось. А дела ему тут никакого и нет. Только бы под ногами путаться, — буркнул Попов (грубиян и невежа).
— Пфуй... Как некрасиво. А скажи-ка ты мне, любезный Попов: не ты ль вчера серебряный полтинник с маво стола рукавом камзола смахнул? Да и в карман тот полтинник, и в карман!
Государыня знала, чем уесть наглеца.
Был Попов тупо-ворчлив, но и был болезненно честен. За царскими вещами смотрел как за своими. Любая пропажа или, хуже того, покража — будь то пропажа серебряного полтинника или сворованная на птичьем дворе курица, — резали его без ножа.
Осерчавший Попов буркнул дерзость, повернулся уйти.
Матушка Екатерина подданных своих, несмотря на их грубости, любила. Обижать зазря намерений не имела. Взмахнув царственной рукой, примирительно сказала:
— Видно, я етот полтинник сама в карты вчерась продула. Играй, матушка, да не заигрывайся! — пожурила она самое себя. — Так ты, слышь, не обижайся на меня, Попов.
А призови-ка ты лутче ко мне нашего беспутника, господина Храповицкого призови.
Попов вышел, императрица сама поднялась с постели, облачилась в еще один («и вовсе уже не прозрачный!») пеньюар, подошла к бюро, отомкнула бронзовым ключиком замок, вынула книгу для записей. Книге вослед — крупно исписанные листы бумаги.
На верхнем значилось:
Новгородский богатырь Боеслаевич Опера комическая, составлена из сказки, песней русских и иных сочинений Государыня Екатерина мыслила сию оперу так: ясно и звонко читают ее записи, разыгрывают, применяясь к обстоятельствам, былину про Буслая (имя простецкое, не для театру! Недаром ею в Боеслаевича переделано). Действие идет равномерно: без топтания на месте, но и без скачков невероятных. Иногда (впрочем, не часто) меж означенными действиями и рассказами о древнем Новгороде звучит подходящая к делу музыка.