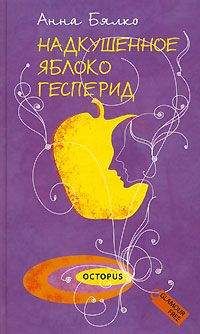Потом было прощание с Борькой, а потом она поехала на каникулы домой.
Дома все казалось Маринке каким-то маленьким, серым и скучным. На улицах лежал грязноватый снег, дома пахло куриными потрохами, делать было нечего. Общаться с теми из школьных подружек, кто никуда не уехал, было неинтересно и не о чем, и вообще, если б не мама, Маринка собралась бы обратно в общагу уже на третий же день. Мама явно соскучилась по Маринке, тут же начала вязать ей ко дню рождения новый свитер, старалась каждый день возвращаться с работы пораньше и приготовить что-нибудь повкуснее. Маринке было ее жалко. Вечерами она подсаживалась на диванчик, и, глядя на ловкое мелькание спиц в материнских руках, рассказывала ей про свое новое житье-бытье. Про Ленку – как ей повезло с соседкой, какая та умная и способная и как они хорошо ужились. Про Борьку – не все, конечно, а как они замечательно дружат и может быть, даже наверняка поженятся после окончания института. Мать вздыхала.
– Ты осторожней там. Мало ли что...
– Да ты о чем, мам?
– О том самом. А то принесешь, как я, в подоле, то-то радости...
– Ну мам! Ты уж вообще! Не буду тебе ничего рассказывать...
– Ты не обижайся на мать, ты слушай. Мать дело говорит. А то дурное-то дело нехитрое, а потом всю жизнь хлебать, я-то вон знаю. А жениться они все мастера, на словах-то...
Маринка сделала вид, что обиделась, встала и вышла в кухню. Вообще-то доля правды в материных, пусть и слишком прямолинейных, словах была, с той только поправкой, что о женитьбе они с Борькой вообще никогда не говорили. Для Маринки это казалось таким же естественным, как сама их любовь, а вот для Борьки... Ну, наверное, и для него тоже, а как иначе? Хотя надо будет, пожалуй, для верности спросить. Вот вернутся в институт, тогда...
На следующий день от нечего делать – мать уже ушла на свою птицеферму, погода была противной, никуда выходить не хотелось, да и некуда было выходить – Маринка стала разбираться в своем старом письменном столе. Перебрала книжки, отложила что-то перечитать, с улыбкой взялась пролистывать старые школьные тетрадки. Надо же, вроде, писала-писала, учила-учила – все оказалось ерунда. Хотя – в институт-то она все-таки поступила! Не такая уж, значит, ерунда...
Из одной терадки выпал маленький календарик. Маринка подняла его – на некоторых днях стояли красные крестики. Она снова улыбнулась. Это был ее «женский» календарь.
Месячные у нее всегда приходили очень неаккуратно. Перерыв мог быть то три недели, а то все два месяца. Лет в пятнадцать она услыхала от кого-то из подружек, что надо вести календарь. Взяла, стала размечать. Старалась где-то полгода, потом забыла, календарь куда-то завалился, так и осталось. А теперь – вот он. Смешно...
Маринка вгляделась в полустертые крестики, и ей потихоньку стало не до смеха. Она судорожно начала вспоминать, когда же это было с ней последний раз? Получалось – едва ли не летом. Да, точно, она как раз сдавала математику в институт, бегала еще, искала туалет в коридоре... Нет, потом еще раз было, они тогда только-только учиться начали. Но... Да нет, не может быть, она просто забыла. Это же, если так, получается... Октябрь, ноябрь... Четыре месяца с лишним. Нет, на столько никогда не пропадало, если только она... Но Борька же обещал!
Марина запаниковала. Вскочила со стула, побежала зачем-то в ванную. Вернулась, села на диван, попыталась взять себя в руки. Чего она запсиховала? Ну, задержка, так у нее всегда с этим было нечетко, а тут новая жизнь, город, экзамены эти... К врачу, конечно. Надо будет сходить, вот она вернется – и сходит. Ленку спросит, та, наверное, знает какого-нибудь врача... Мелькнула мысль, не спросить ли у матери, но Маринка ее отвергла. Мать расстроится, только ахать начнет, а что ахать? И потом, тогда придется про Борьку все рассказывать, а этого пока не хотелось.
Отпраздновав день рождения – хотя какое там празднование, мать испекла пирог с сушеными яблоками, посидели вечером, попили чаю, и все – Марина на следующий же день собралась в город.
– Дела, мам, – говорила она расстроившейся матери. – Ну правда дела. Надо новые книжки получить, к лабораторным готовиться.
Уехала последним автобусом, в Н-ск добралась уже к ночи – в общежитие не хотели пускать.
Ленка была на месте – она вообще не ездила домой на каникулы. Обрадовалась, стала поить чаем с дороги. Слово за слово – и Маринка спросила наконец, не знает ли та по случаю где женского врача?
– А тебе зачем? – Сразу вскинулась Ленка.
– Да у меня... Чего-то я... Задержка, в общем...
– Большая?
– Да месяца три... Да ты не думай, – заторопилась Маринка, глядя на ленкины расширившиеся в ужасе глаза. – У меня так бывает, просто уж очень долго что-то... Надо бы к врачу...
Ленка врачей не знала, но с утра развила бурную деятельность, и уже после обеда Маринка получила в руки листок бумаги с адресом консультации и фамилией врача, который принимал студенток из общежития.
У врача Марине не понравилось. То есть просто с самого начала не понравилось, еще накануне, еще, собственно, до всякого врача, как только она вошла в низенькую дверку-пристроечку, притулившуюся сбоку трехэтажного серокирпичного здания поликлиники, еще как только спрашивала в окошке регистрации, где принимает такая-то, еще как только талон на завтра брала. И, как выяснилось, не зря. Потому что все то, что ей не нравилось заранее, было, как оказалось потом – еще цветочки.
Толстая врачиха неопределенного возраста в застиранном до серого цвета халате смотрела на Марину так, будто бы та, как минимум, пыталась украсть у нее кошелек. Цедя слова уголком рта, врачиха сперва долго ругалась, что нет медицинской карты, потом велела садиться, и наконец неприязненно спросила, на что Марина жалуется. Марина в страшном сне не стала бы жаловаться такой противной тетке даже на насморк, но отступать было некуда.
– У меня задержка. Три месяца, – выдавила она.
– Половой жизнью давно живешь? – выплюнула врачиха следующий вопрос, и, услышав в ответ маринино: «Четыре месяца», удовлетворенно хмыкнула.
– Ну что ж, дело ясное. Раздевайся давай – и на кресло.
Напрасно Марина пыталась объяснить что-либо про свой нерегулярный цикл, про «предохранение» – врачиха ничего не слушала и только строчила в карте, не отрываясь. Потом, случайно подняв глаза и увидев, что Марина так и стоит нераздетая, она рявкнула так, что бедная Марина вихрем метнулась за хилую клеенчатую ширмочку, и больше не звука не издала.
Кресло оказалось кошмаром. Марина видела такую штуку впервые в жизни, и долго не могла залезть на нее по скользким холодным приступкам, а когда все же залезла, то не обрадовалась. Кресло было тоже скользким и почему-то липким, из него торчали, как рога, непонятные кривые подставки, лежать было страшно неудобно, ноги съезжали, а внутри все намертво сжалось. Врачиха мыла руки в углу. Руки были красные, в шершавых трещинах, и злые даже на вид. А уж когда она, подойдя, сунула одну руку Марине внутрь...
Впрочем, Марина не успела даже вскрикнуть. Врачиха закричала раньше.
– Вот, это надо же, какая у нас молодежь теперь! Да у тебя ребенок там уж шевелится, а она – задержка! Ни стыда, ни совести! Задержка у них! И ведь еще лапшу мне вешает, циклы-мыклы! Вставай давай, одевайся! И учти, – добавила она уже тише, но зато с какой-то иезуитской злобной радостью. – Никаких абортов на таком сроке даже и не мечтай! И не заикайся. Сделаешь анализы, – она пододвинула к Марине кучку желтоватых коряво исписанных листков, – и через месяц явишься. Свободна.
Ну, в этом-то она как раз ошибалась. Когда Марина, отплакавшись за углом поликлиники, разобрала наконец на этих самых листках складывающиеся из каракулей слова: «Беременность. Срок двадцать одна неделя», она меньше всего на свете ощущала себя свободной. Пойманной – да. Обманутой, причем неизвестно кем – да. Человеком, у которого внезапно кончилась жизнь, а заодно и сдутым воздушным шариком – сколько угодно. Но к свободе все это не имело ни малейшего отношения.
Дальше все было, как в плохом кино. Верная Ленка, охнув от марининых новостей о медицинском диагнозе, побегала-побегала, и через пару дней отвела Марину уже в какой-то платный медицинский центр. Там якобы, по словам какой-то знакомой, делали «поздние аборты», что бы это ни значило.
В этом «Центре Планирования Семьи» с каким-то уютным названием вроде «Светлячка» или «Лапочки», точнее Марина не запомнила, поскольку находилась в каком-то странном малосознательном состоянии, их приняла другая, несколько более симпатичная врачиха. В отличие от первой, она разговаривала сочувственно, но тольку от этого все равно было мало, поскольку разговор свелся примерно к следующему.
– Да, мы делаем аборты на больших сроках. Где-то до двадцати, даже двадцати одной недели. Это стоит семь тысяч рублей.
Марина ахнула. Такие деньги могли ей только сниться. И то по праздникам. Но врачиха поняла ее по своему.