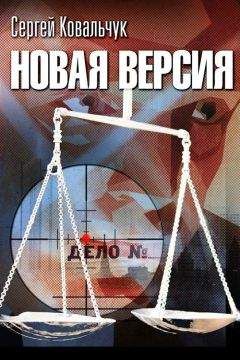– Arschloch[48] , – выругался писатель, когда турки скрылись за поворотом. – Тебе не страшно здесь жить?
– Нет. Девушку не будут толкать. Здесь принадлежность к женскому полу дает некоторые преимущества.
Теперь они стояли у ее подъезда. Перед тем как вступить в черное нутро дома, он еще раз быстро окинул взглядом улицу – длинную Адальбертштрассе. В конце ее над темной площадью висела станция метро, светилась желтым электрическим огнем через толстые закопченные стекла. Турецкие ларьки и палатки лепились под ней причудливо и делали картину почти первобытной: древний боевой лагерь, кочевье под брюхом летающей тарелки.
Они поднялись к двери ее квартиры. Она вошла, привычным движением включая свет в длинном коридоре общей студенческой квартиры. Он остался в дверях, полувопросительно глядя на нее.
– Спасибо за приятный вечер, – сказала она, все так же приветливо глядя ему в глаза. – Спасибо, все было хорошо. Я очень устала, – прибавила она тихо.
Он кивнул. Взялся за дверь, но потом вдруг обернулся, взял ее за плечи, привлек к себе и поцеловал. Она приобняла его, быстро ответила на поцелуй и отстранила. Он поймал дверь за спиной и осторожно прикрыл.
– Иди сюда! – попросил он, протягивая руки.
Она посмотрела на него своими мутновато-голубыми глазами с удивлением и жалостью.
– Знаешь, – сказала она наконец, – я думаю, это не самая лучшая идея.
– Иди сюда, я хочу тебя! – повторил он. Его глаза неотрывно смотрели на нее, меняя выражение с собачьего на бездонно-отчаянное. Он не убирал рук с ее плеч, только сильнее сжимал их, глаза расширялись, разверзались бездонной диафрагмой, глаза молили, кричали: дай! Дай, ты ведь так улыбалась, была такой приветливой – молодость, твоя молодость, моя молодость, наглость, подпольные выставки, Пушкинская 10, портвейн и девушки, девушки – мне, писателю, дважды герою андеграунда, дай! Ты, странная, безразличная, улыбающаяся всем, всех отстраняющая, другая, другая, как эта другая, чужая страна – дай! Дай – ты обещала, обещали твои глаза – просто вот так не смотрят: дай! Обещала, звала, сулила: свобода, великая культура, инвестиции в искусство, музеи, полные инсталляций, книги большими тиражами, слава, деньги; ты, которая была на карте такой маленькой, а оказалась такой огромной и такой холодной, заманила к себе, в царство льда, стекла, металлоконструкций и бетона, самолеты, машины, оскал радиаторов, злые глаза спортивных «Audi» и BMW, зубы колючей проволоки на ведомстве по делам иностранцев, бесконечно длящаяся Александерплац, аллея Карла Маркса, Фрид-рихштрассе, «Русский дом», огромный и пустой, как последний бункер Берлина – так дай же, дай мне сейчас! Русскому солдату, взобравшемуся на рейхстаг, ревущими гусеницами танков подмявшему под себя белокурых подростков с фаустпатронами, расстрелявшему половину города, изнасиловавшему вторую половину, стоящему в парке на высоком постаменте, огромному, страшному, с железным мечом в одной руке и железным ребенком в другой – дай! Дай – некрасивая, нелюбимая – дай хоть ты, кто еще, если не ты…
Он больше не мог сдерживаться – с силой притянул ее к себе и стал целовать. Она отстраняла его, сопротивлялась, но все меньше и меньше – когда он впился толстыми жесткими губами в ее шею, только шептала: не надо, не сейчас, не надо!
XIV
Было очень рано, около шести утра, когда я начал одеваться. Я медленно искал рубашку в шкафу, потом долго ее гладил, ощупывая и уничтожая каждую складку, каждую потаенную помятость. Потом выбирал штаны – она говорила, что мне идут светлые. Я шарил рукой по полкам, пробовал ткань и вспоминал, какие из сложенных в шкафу брюк светлые, а какие нет.
От окон веяло холодом, и на улице, как внутри выключенного, остановленного прибора, было холодно и безжизненно. Я почистил зубы, тщательно, двадцать движений щеткой на каждый зуб.
Ботинки я выбрал зимние, тяжелые, на толстой подошве. Потом начал проверять автомат.
– Verschluss, Abzugsstange, Stuetzriegel, Schlaghebel, – повторял я как стих, пробуя пальцами части, вставляя магазин, взводя затвор. Автомат был готов. Готов был и я.
Улица была тихая. Тихо было не по-ночному – город просыпался медленно, сонно поворачивался. Я спускался к Розента-лерплац – на мне была рубашка с коротким рукавом, малейшие колебания воздуха я ловил открытой кожей – так что отсутствие движения в нем мог чувствовать абсолютно. Кожа вокруг глаз удивлялась свежести, сырости, открытости – я впервые за много лет не надел на улице темных очков.
Автомат я держал в руках, с пальцем на курке, он был в полной боевой готовности. Мысль о том, что кто-то в этот ранний час может остановить меня, я отогнал почти сразу. Кто осмелится, думал я, и если осмелится – посмотрим, что будет. Но ничего не было.
А потом вдруг вспомнилось, как когда-то, шестнадцати ли, восемнадцати ли лет от роду, он впервые пришел на подпольные чтения и прочел там свои стихи. Это было в одном из домов культуры, в полуподвальном помещении. Участники чтения были самых разных возрастов: лохматые юноши, молодые люди в очках и костюмах, должно быть, инженеры по профессии. А может, просто чертежники. Были лысеющие, неухоженные мужчины в свитерах: ему тогда очень понравилось, что все были на «ты», все шутили друг с другом, казалось, не было здесь никакой иерархии, не было интриг, не было зависти. Все сидели за сдвинутыми вплотную столами в странном, непомерно длинном и узком помещении, с недосягаемо высоким потолком и утробной акустикой. Он страшно волновался, когда читал – во рту мгновенно пересохло, голос дрожал, и, что было самое отвратительное, дрожали руки, и все остальные это видели, потому что листок, с которого он читал, тоже дрожал и прыгал вместе с руками. Его хвалили, в перерыве все курили, он тоже курил, невзатяг, и другие, наверное, это тоже заметили, но ничего не говорили. А потом кто-то спросил его, к чему он стремится, чего хочет добиться своими стихами. Он пустил дым в далекий потолок и сказал, как мог взвешенно и достойно: хочу создать произведение огромной силы воздействия, такой, чтобы человек, прочитав его, пошел и повесился.
Но ничего не было. На Розенталерплац встречались редкие люди. Они проходили мимо, и ничто не менялось в их походке, дыхании, в фактуре окружающих их сонных облаков, когда я проходил мимо. Ивалиденштрассе была долгой, я шел, стараясь опуcкать ногу сначала пяткой, и потом – всей массой. Тяжелые ботинки стучали, как у солдат на марше. А земля под ними покачивалась, словно город готов был, вскинув руки, закатиться в затяжной обморок. Все пройдет. Приду в квартиру, подниму сонного, загоню стволом в самый дальний угол. Пусть дрожит, пусть боится….
Нарядная Фридрихштрассе включала огни, он подходил к перекрестку с Линден, где в витринах поблескивали огромные, бесконечно дорогие автомобили. Здесь ходила чистая публика, и он – русский писатель, бывший диссидент, гражданин Германии, множество публикаций, участие в международных форумах… За Линден стоял странный, уродливый, совершенно не подходящий этой улице отель, белый кубик из семидесятых годов. Он стоял, как злой белый зуб, клык, оскалившийся на каменные грузные здания вокруг. Вот и я, – думал писатель, – вот и я… Он вспомнил, как сегодня уходил от этой странной девушки, вспомнил свои листочки, снова появившиеся на страницах газет, и дискуссии, крики, единодушные проклятия всей немецкой интеллигенции их автору, который идет, в костюме и с портфелем, заходит под железнодорожный мост, гудящий над Фридрихштрассе, и с кривой усмешкой читает свежее граффити на стене под мостом: «Nazis raus!"[49] .
У Фридрихштрассе я впервые почувствовал поднявшийся ветер. Что-то прошуршало по земле, закрутилось, снова осело. Листовки как осенние листья. Освободи свою ненависть.
Встречались редкие люди. Все проходили так же невозмутимо, только один, низенький, потный, кажется, совсем маленький мальчик, поравнявшись со мной, странно дернулся и приостановился. Дернулся и я. Ребенок. Раннее утро – что он делает на улице?
Я перешел дорогу и стал искать его дом. Я не помнил точно, на секунду показалось, что вот ошибусь, не найду, ничего не выйдет. Но я нашел, не помню, как это получилось – камень был знакомый, дверь, запах из подъезда – что-то, по чему большинство людей безошибочно отличают собственный дом. Обе створки двери были распахнуты, словно готовясь принять что-то большое. Но вокруг никого не было – и я вошел, начал подниматься по скрипучей лестнице. На втором этаже позвонил.
Потом он узнал, что в этом кружке никто никому не завидует только потому, что все его участники одинаково бездарны. Он взрослел, вместе со злостью пришли ирония и начитанность, ушло волнение, появилась самоуверенность. Желание эстетизма, легкости сдуло мрачную подростковую картинку: томик стихов и человек в петле. Но вот сейчас, думал он, сейчас был бы рад тот подросток, если бы в подворотне увидел лежащего в засохшей крови турка, и рядом – темную от этой же крови, длинную, непристойную железку. Маленькой, обрезанной ножом-гильотиной бумажки рядом, конечно, нет – убийца носит ее в кармане. Но рад ли он, сорокатрехлетний, берлинский?