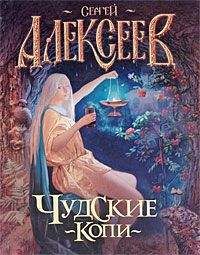Вот он и сказал Кие, мол, коль ты добыча моя, то волен я сделать с тобой все, что захочу. А хочу я прежде окрестить тебя, а потом и обвенчаться. По твоему обычаю мы сочетались браком, настал черед и по моему сочетаться.
– Добро, – отвечает она. – Испытай, волен ты надо мною или нет.
Ни Опрята, ни Феофил хитрости не узрели. Велел инок чудинке в реку войти, а сам изготовился молитвы читать, однако вышел на берег и словно закаменел – зубы стиснулись, что рта не открыть, и руки не поднять, дабы крестное знамение сотворить. Явно от силы ее бесовской, от чародейства сие происходит!
А Кия постояла в холодной весенней воде и говорит:
– Ну что же ты обряда своего не творишь? Замерзла я...
Инок попытался мысленно «Отче наш» прочитать, но разум отуманился и ни единого слова не вспомнил. Мало того, чует, леденеть начинает, ноги и руки очужели, словно не чудинка, а он в воде по горло стоит. Холод уж груди достал и вот-вот сердце заморозит.
Кия же еще посидела в реке и вышла, вся сухая. И с Феофила в тот же час оторопь спала, однако на том он не унялся и говорит Опряте:
– Сие приключилось оттого, что из сей Кии прежде след бесов изгнать. Лишить ее силы нечистой! Но сотворю я это, когда она почивать будет.
– Изгоняй, – согласился воевода, дабы избавиться от ропота ушкуйников.
Дождался он, когда чудинка уснет в юрте, позвал инока, а сам ушел. Тот принес сосуд со святой водой, установил железный крест и себя обережным кругом обчертил. И только было кропить собрался, как навалилась на него дрема небывалая, зевота рот дерет, глаза слипаются. Не смог он обороть сна да так на полу под крестом и захрапел. Наутро Опрята едва растолкал, а Феофил вскочил да ничего не помнит, изгнал бесов или нет, поскольку ему сон привиделся, грешный для инока – будто бы он с чудинкой прелюбодейство учинил! А пробудился в томлении и трясучке бесовской, ибо нечистая сила его мучила и испытания творила. От сего сна впал он в великое смущение, воеводе же сказал, дескать, совершил он очистительный обряд, можешь с собою в ушкуй сажать. По пути, мол, окрещу и окручу вас, как полагается.
Кия же молчит и лишь улыбается, очи потупив. Когда инок ушел, сказала:
– Вижу, не волен ты не только надо мною, но и над ватагой своей. И поскольку я сама тебя в мужья избрала и дала в свое зеркало посмотреться, по чудскому обычаю во всем помогать тебе стану. Жрец твой еще долго не уймется, ибо сам не чист и под черными чарами пребывает. Мысленно он со мною тут прелюбодействовал, взирая на сонную. И в яви бы сие сотворил, не напусти я на него дрему. Оттого он и лютовать станет. Завтра, от плотского томления не избавившись, потребует очистить меня не водою, а огнем и, ко кресту приковав, на костер посадит. Откажешься, люди твои на тебя же исполчатся, ибо на зависть им ты меня взял, как добычу. Но поскольку свет солнца им блеск золота застит, то скажи ватаге, что отныне буду я вожатой и проведу ушкуйников через все чудские порубежья прямо в середину земли, где вдоволь им будет добычи. Тогда они не тронут меня и оберегать станут.
– Где же она, середина вашей земли? – спрашивает Опрята. – Далеко ли идти?
– Теперь уж недалече, – чудинка ему отвечает. – Когда Бог творил твердь земную, взял горсть камней и бросить хотел, чтоб горы сотворились. Но угодили ему в ладонь одни самоцветы, которые и Богу стало жаль бросать. Вот он и положил их на землю в своей руке, и чудь потом туда поселил. Так и называется середина земли нашей – камешки в Божьей ладони. В ней и живем от сотворения мира.
Воевода уж свыкся с норовом Кии, однако не ожидал, что она сама вызовется вести ушкуйников, и хитрость заподозрил.
– Неужто ты и в самом деле проводишь нас в свои земли? Ведь это ты же сказывала, что несем мы огонь и разор...
Да развеяла она мысли его опасливые:
– Оставь свои сомнения, витязь, непременно провожу. Каждый из твоей ватаги возьмет себе по чудинке с приданым, если того пожелает. И еще множество всяческого добра, для них многоценного. А сотворю я это того ради, чтоб вы не жгли, не копали могил наших предков, не шевелили бренные кости и не тревожили их покой.
Вышел Опрята к своей ватаге, а она уже колобродит по берегу, и снова ропот слышен, дескать, боярин обычаи блюсти должен, а сам нарушает. И Феофил между ушкуйниками ходит, верно, добавляет топлива в сей огонь тлеющий. А воевода же, опять всех хитростей чудинки не изведав, сказал ватаге так, как Кия научила, мол, в самую середину земли поведет вожатая. Сказал, и будто у самого очи просветлились – позрел, как ослепленная ватага бросилась к своим ушкуям да схватилась за греби. Иные так и вовсе, словно безглазые, мимо садились в воду ледяную и готовы были вплавь супротив течения руками грести. И орали вразноголосицу:
– Скажи своей Кие, пусть ведет! Сади ее скорее в свой ушкуй!
Даже про инока забыли, коему ни в одном ушкуе места не досталось, потому он, страсти свои усмиряя, подхватил подол рясы и берегом напереди побежал.
От сего вида печально сделалось Опряте. Однако же он посадил чудинку на корму, дабы правила, а сам на греби сел, к ней лицом, чтоб образ ее прелестный всегда перед очами светился. И черпала реку ватага так много дней без устали, ни разу к берегу не причаливая, ибо и в самом деле не было впереди никаких преград, с коими лазутчики прежде сталкивались. Открылся путь по Томи, даже стрежень весенняя, великая, свой бег норовистый и бурный усмирила, а порою чудилось, вспять потекла река. Иной раз спор возникал, уж не сбились ли ночью, не повернули ли вспять, вроде вчера солнце с другой стороны светило. Но поглядят на берег – нет, инок Феофил в нужном направлении бежит, плоть свою усмиряя, а уж он-то никак не собьется. Да и ушкуй воеводы, коим правит чудинка, всегда напереди, и сам Опрята в одиночку машет веслами без устали: верно, чародейским образом черпает силы свои или мыслит еще взять добычи...
Тут по левому берегу устье быстрой реки показалось, и глядь, Кия туда повернула. Знать, уж совсем близко середина чудской земли, сердца у гребцов к горлу подпирают, дышать мешают, однако, как ни вглядывайся, ни единой живой души на суше, кроме бегущего инока. И только едва слышно доносится стук топоров, голоса смутные, да отчего-то земля по берегам охает, ровно свой последний дух испускает. То ли попрятались туземцы, то ли затаились и тихо взирают на пришлых да ждут, что станется. Молва-то была, с огнем и булавами идут ушкуйники, а тут же целят мимо, и ни единого кургана не спалили, ни одной могилы не тронули, хотя их попадалось во множестве, и даже с воды было видно поганые столбы да храмы, на вершинах поставленные.
По томскому незнаемому притоку места пошли гористые по обоим берегам, на склонах всюду леса темные, хвойные, иногда скалы торчат причудливые, а то вдруг восстанут из-за поворота утесы речные такой высоты, что шапка валится. Между гор часто долины попадаются травянистые и благодатные, а на них только дикие звери пасутся, а то малые речки и ручьи прямо со скал сбегают водопадами, и висит над ними радуга – дуга солнечная, ровно нимб над головою святого. Иногда напахнет от земли дух пряный, цветочный – аж голова вскружится. Опрята глядит на манящую сушу, черпает воду гребями, а сам опять место себе выбирает и думает, вот хорошо бы здесь причалить или там, срубить хоромы да поселиться вдвоем с чудинкой. А ушкуй спалить по старому обычаю, ибо правило такое существовало: ватажник, промысел свой оставляющий навсегда, выволакивал последний ушкуй на берег, ставил его на слеги, складывал оружье, кольчужку и броню, после чего рубил весла и разводил под днищем костер.
А прежде, говорят, одряхлевшие старые ушкуйники и сами в него ложились, дабы отправиться в последний путь...
Воевода же был молод и мыслил о жизни, и посему греб супротив пенной стрежи, взирая на Кию. А у той ветер волосы вздувает, ровно плащ, гибкие руки кормило влекут то влево, то вправо, согласно речным поворотам, и вкупе с ними мысли Опряты виляют между берегами. Но одна прямая была, словно стрела: как возьмет ватага обещанную богатую добычу и тронется в обратный путь, он, воевода, отречется от достоинства своего, ибо никогда уже не взять более драгоценностей, чем взяты были им в сем походе.
Думал он так потому, что не изведал до конца чародейского и коварного нрава Кии и в манящем, завлекающем заблуждении пребывал. Греб он, взирая на вожатую свою чудинку много дней подряд, покуда не заметил, что красные горы по берегам повторяются в точности, какие уже проходили и вчера, и позавчера. Приглядится, да вроде бы нет, Кия все время супротив течения ушкуй направляет, да и Феофил попутно бежит. Но затаенным от чудинки взором приметил он камни на берегах и еще сутки напролет черпал бурную, стремительную воду.
Глядь, а приметы одна за одной выплывают из-за поворотов. Да ведь быть того не может, чтоб река по кругу текла!
И только подумал так, как Кия заломила кормило и к берегу причалила.