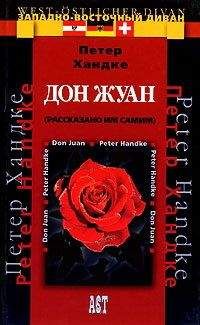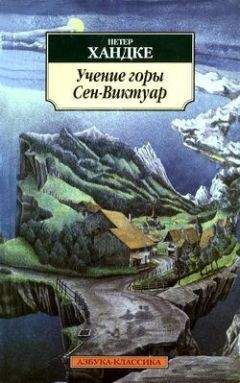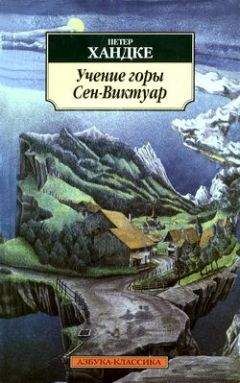До боли похожей на долину Родон кажется и та, что расположена в непосредственной близости от Сен-Кантена по берегам речки Мерантез. У самых истоков вод, прорезающих плато, долина осталась незаселенной, местами она покрыта такими же, как и возле меня, почти непроходимыми зарослями колючих кустов ежевики, опутанных вьющимися растениями. Там он и плутал в то майское утро, мой Дон Жуан. Сначала он, правда, шел лесными тропами. Он умел оставаться незаметным. Нередкие здесь бегуны или всадники не увидели его. Кто другой, может, и поостерегся бы бегущей лошади, но только не он. А сквозь кустарник он продирался просто так, по привычке и из азарта. И все его мысли были направлены на то, чтобы распорядиться временем по собственному усмотрению — он считал это главным делом своей жизни, во всяком случае в данный момент. Так что сейчас его ничто не интересовало, кроме кедра, возвышавшегося впереди на прогалине в долине Мерантез — темная развесистая крона за всеми этими дебрями из никчемной поросли, — даже если это привело бы к отклонению от намеченного им для себя маршрута.
И как если бы одинокий грибник наткнулся вдруг на труп в лесу, так и Дон Жуан неожиданно увидел перед собой поперек лесной дороги голую парочку. Он буквально замер на месте. Меж кустами отчетливо виднелась голая женская спина. Все слова для передачи того, чем занимались эти двое друг с другом или что между ними происходило, независимо от того, служили ли они изящному описанию события или огрубляли и опошляли его, выражали до сего времени прежде всего смущение очевидца, и так оно, по-видимому, останется и впредь. Мужчину Дон Жуан практически не видел, разве что его согнутую в колене ногу. И слышно тоже ничего не было, — парочка не произносила ни звука; они устроились в небольшой ложбинке, а он стоял от них буквально «в двух шагах», на расстоянии, что называется, плевка, и спасал его только шум листвы да журчание ручья.
Первый порыв Дон Жуана был: бесшумно удалиться. Но потом он решил остаться, пожелав присутствовать при происходящем. Это и в самом деле было его волевым решением, трезвым и спокойным. Он возжелал лицезреть двух воссоединившихся и продолжающих без остановки воссоединяться молодых людей. И речи не могло быть о том, чтобы отвернуться. Теперь это уже стало его долгом — регистрировать происходящее и измерять его. А что измерять-то? Этого Дон Жуан не знал. Во всяком случае, он смотрел на них, не испытывая никаких эмоций и даже намеков на возбуждение. Все, что он ощущал, было лишь удивление, очень спокойное, можно сказать, элементарное. Со временем оно перешло, правда, в отталкивающее чувство, но не то, которое испытываешь, невольно подслушивая, что происходит в соседнем номере гостиницы, и которое сопровождается, как правило, тем, что все в тебе противится происходящему — целиком и полностью, со всеми твоими потрохами вместе.
Очевидным было то, что оба абсолютно не видели в своих действиях ничего тайного и постыдного, что следовало бы скрывать от посторонних глаз. Они исполняли этот акт не только для случайного зрителя, они как бы выставляли его на обозрение всему миру. Показывали, что и как. Более гордыми в своих действиях и более величественными просто нельзя было быть. Особенно этим отличалась блондинка, или крашеная под блондинку особа, превратившая укромные лесные заросли цветущего дрока вблизи одинокого кедра в театральные подмостки, поистине заменявшие для них в эти очень-очень затянувшиеся моменты целый мир. Упиваясь, она попеременно играла солнечными лучами у себя на плечах и на бедрах, двигаясь все быстрее и активнее, буквально танцевала вместе с солнцем и извивалась, как заклинаемая змея, вертела своим юрким задом. Какой гордой она казалась, держа спину прямо и весело занимаясь любовью. Оно и впрямь казалось, что активность в этом деле проявляет только она одна (и тогда речь действительно могла идти только о ней и о том, что было тем лучшим, если не единственным, что она могла предъявить миру или кому другому стоящему поблизости); мужчина под ней был, так сказать, заурядным подателем реплик, служебным подспорьем, орудием ее труда и, соответственно, почти невидимым в этом акте. Вот так — с невидимым мужчиной и выставленной для всех желающих на обозрение женщиной — могла бы быть снята очередная любовная сцена в любом фильме, но только на природе принципиально все смотрелось иначе, и не потому лишь, что Дон Жуан видел всю картинку наяву и прямо перед собой — в отличие от крупного плана на экране, к тому же, как всегда, на некотором удалении от места действия, — здесь тоже был крупный план, но не снятый на кинопленку, а, что называется, в натуре.
Только через неделю после увиденного, когда Дон Жуан, думая о той парочке, как бы праздновал вместе с ними выходные дни, — а он не сомневался, что они их праздновали, да еще и как, — ему вдруг вспомнилось, какими желтыми были на тонких ветках-прутиках цветки красильного дрока с обеих сторон от пары. И как ветер мотал, раздвигая и сдвигая, этот сплошь желтый кустарник семейства губоцветных. От кедра доносился специфический шум, похожий на свист. Высоко в небе, неправдоподобно высоко для птицы, кружил один из тех орлов, которые обычно только в особо ясные и тихие дни жаркого лета покидают свои насиженные места или гнезда в лесу под Рамбуйе и летят в околопарижское воздушное пространство. Осы с шумом и жужжанием трудились над посеревшей от ветра и дождей поленницей (так же выглядел сейчас у меня в саду и мой деревянный стол — ведь рассказ Дон Жуана пришелся на май месяц, когда осы строят гнезда). На одной из веток, свисавших над ручьем Мерантез, не то болталось, не то раскачивалось что-то продолговатое и полосатое, по весу не тяжелее туфли, похожее на скрученную магнитофонную пленку, — такой невесомой могла быть лишь сброшенная змеиная кожа, значит, в округе Пор-Рояля все еще водились или снова завелись змеи. С кедра сорвалась прошлогодняя шишка и прокатилась по парочке. Переливающийся блестками песок сверкнул на дне ручейка, в котором не было рыб, и послышался шум трактора с полей, что распахивали наверху, на плато. На краю леса, на противоположном склоне, нарисовалась большая семейка бабушек-дедушек-родителей-деток, они устраивались на пикник, устанавливая складной столик, по одной из самых современных трасс проехал школьный автобус, и дети сбились там в кучку в самом заду, а в воздухе мельтешили те маленькие рыженькие мотыльки, про которых всегда думается, когда двое из них вьются друг подле друга, что их трое.
Дон Жуан под конец был, однако, разочарован парочкой. Все закончилось слишком тривиально. Оба они вдруг стали производить слишком много шума. Женщина то и дело вскрикивала, а мужчина мычал, хрюкал и сопел. Потом она рухнула на него, упав вперед, а он гладил ее рукой по спине и чесал при этом другой согнутое колено. В самом начале, прежде чем закричать, она произнесла что-то невнятное про «любовь», и он тоже пробормотал нечто похожее. Дон Жуану надо было бы уйти еще до того. Ведь ничего уже не изменилось бы, как если бы кукушка вместо привычного «ку-ку» прокуковала трижды и замерла потом, как поперхнулась. Конечно, он остался и смотрел, как бы исполняя свой долг, но уже считал секунды, или, скорее, просто считал, как это делают обычно при вынужденной задержке в ненужном месте и хотят убить время, когда оно тянется бесконечно. А время становилось для Дон Жуана уже проблемой, пожалуй, главной на данный момент.
Однако он собрался уходить только тогда, когда два голых тела в ложбинке стали явной добычей несметного количества мух и муравьев. Правда, так было и до того. Но они заметили это, похоже, лишь сейчас, и постепенно им стало это надоедать. До самого последнего момента Дон Жуан ждал, что с ними произойдет что-то еще, нечто противоречащее обычному ходу вещей. Но что, например? Никаких вопросов, осадил он меня строго.
Поворачиваясь, он наступил на хворост, и парочка тут же заметила его. Он уточнил: никакого хруста, заставившего их обернуться, а только его, стороннего наблюдателя, вздох. Вздох разочарования? Прекратить задавать вопросы! По правде говоря, я никогда и ни у кого не слыхал такого вздоха, как у Дон Жуана. И он целую неделю предоставлял мне эту возможность постоянно слышать его вздох — во время рассказа или безмолвного сидения в саду. Это был вздох стареющего мужчины и одновременно ребенка. Необыкновенно тихий и легкий, даже нежный, но он доносился, проникая сквозь любой шум, даже сквозь непрерывный гул с автострады — скоростной трассы, прорезавшей с недавних пор долину Родон и беспрестанно показывающей ей свой оскал, — сквозь ураганный шквал и вой бомбардировщиков, на протяжении всей недели грохотавших над нашими головами в ритме их маневров на Троицын день. Вздох Дон Жуана внушал мне доверие, и не только к одному этому человеку.
Любовная же парочка, напротив, расценила его вздох как предательство. Их привело в бешенство не то, что на них кто-то смотрел. Они схватили свои кожанки и помчались за ним, потому что он как зритель, наблюдавший за ними и за тем, что они только что пережили и что, возможно, незримо еще держало их в плену, подверг все своим вздохом унижению и осмеянию. А Дон Жуан, как всегда, даже и в других ситуациях, бежать не собирался. С какой стати он должен бежать? Да и нельзя ему было бежать. Но, как всегда, другого выхода не было: пришлось бежать.