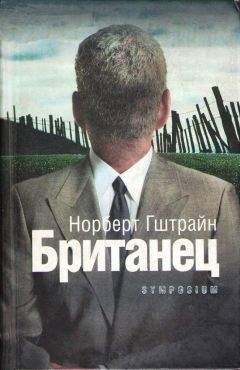— Уж не знаю, можно ли назвать это рукописью, — сказала она. — Огромное количество картонных коробок со всякими бумагами, там сотни, тысячи страниц, по-моему. Но это наверняка не то, что вы надеетесь увидеть.
И тут она рассказала, что Хиршфельдер в течение многих лет вел ежедневные записи — отмечал перемены погоды и ветра, тщательно регистрировал дату и час своих наблюдений, цвет неба и моря, форму облаков, время приливов и отливов, еще он составил реестр, куда заносил все причаливавшие и уходившие корабли, а кроме того, снова и снова принимался описывать наступление ночной темноты; это и была она, рукопись, — через несколько дней, придя к Маргарет, я увидела ее своими глазами.
Ни строчки из грандиозной эпопеи, над которой он работал, о которой ходило великое множество слухов, ни единого, хотя бы коротенького упоминания о ней, а когда я заговорила о том, что не раз слышала о книге, и поинтересовалась, не осталось ли после Хиршфельдера другого, неизвестного архива, она лишь устало махнула рукой:
— Ах, да хоть вы-то не начинайте опять об этом… — Она с беспокойством взглянула на меня, и вдруг разом пропала ее сердечность и приветливость. — Кто только не расспрашивал об этом архиве после его смерти, — сказала она. — Как видно, все воображают, будто я что-то припрятала.
Макс говорил, что Хиршфельдер задумал дать в романе панораму целого столетия и постепенно все расширял свой первоначальный более скромный замысел; хорошо помню его тогдашний словесный водопад: Хиршфельдер собирался написать о четырех встречах бывших одноклассников, выпускников венской школы, которые сдали выпускные экзамены вскоре после пресловутого аншлюса Австрии, и, как во всех романах и повестях, где речь идет о судьбах бывших школьных приятелей, их встречи должны были предстать своего рода судилищами. В самом начале предполагался рассказ о том, как трое друзей, последние оставшиеся в живых из всего класса, вместе отдыхают на выходных в гостинице где-то в Альпах: беседы и воспоминания стариков о детстве и юности, в которых появляются все новые персонажи, те, кто уже ушел из жизни. По замыслу автора, временной план романа должен был постоянно меняться, подчеркивал Макс, а действие — переноситься из настоящего в прошлое, и еще Хиршфельдер якобы собирался написать ряд эпизодов: автобусная поездка героев в Париж в семидесятые годы, вечер в кабачке под Веной в пятидесятых и первая годовщина выпуска, в год начала войны, — вот такие, если я все правильно запомнила, предполагались основные временные вехи, пересечения жизненных путей, причем Хиршфельдер хотел выстроить не три сюжетные линии, а двадцать одну, проследив в них потенциально возможные варианты своей собственной судьбы, столь жестоко сломленной эмиграцией, он намеревался двадцать один раз поставить вопрос, а что произошло бы, останься он тогда в Австрии? Но проблемой Хиршфельдера было как раз то, что выбора не было, пояснил Макс, и еще он сказал, именно из-за этого концепция романа в целом страдала внутренней противоречивостью; помню, мне показалась чересчур прямолинейной его попытка оправдать Хиршфельдера и слишком легкомысленным — утверждение, что при разработке подобной темы избежать противоречий невозможно.
Выслушав Макса, я кивнула, мне не пришло в голову, что Хиршфельдер, возможно, вообще никакого романа не писал, — сегодня я думаю, так оно и было — Макс ведь был совершенно неколебимо уверен, что в конце жизни Хиршфельдер уничтожил рукопись, и я до сих пор никак не привыкну к мысли, что, кроме названия, в котором выразилась упрямая воля к самооправданию: «Живые живы, мертвые мертвы», кроме этой откровенной тавтологии, ничего никогда не было создано.
Эта резкая формула поневоле пришла мне на ум и на той выставке в Австрийском Институте, когда я заметила, что чуть ли не все участники постоянно держатся поближе к своим собственным фотографиям. Были там портреты, сделанные в ателье: застывшие в неестественных, напряженных позах молодые люди гордо, хоть и не слишком уверенно смотрели в объектив; любительские снимки — смеющиеся лица тех, кого щелкнули без предупреждения, и выцветшие по краям групповые фотографии, со стрелками, указывающими на чью-нибудь голову, но тем не менее, если не считать нескольких исключений, казалось, что все они одинаковы, и хотелось поднести поближе или, наоборот, отстранить подальше эти фотографии, хотелось увидеть то, что произошло за секунду до съемки или сразу после, — тогда, быть может, не возникло бы впечатления, будто на снимках уже стерлось самое существенное, все, что могло пролить свет на судьбы эмигрантов, между тем удивительно легко обнаруживалось сходство между изображенными на фотографиях и людьми, стоявшими рядом, точно восковые фигуры, тогда как лица на снимках казались живыми. В зале горело электричество, от этого всякое представление о времени суток пропало, мне вдруг почудилось, что окна наглухо закрыты, — так стало душно, и в шепоте женщин и мужчин, — их жизненные пути протянулись, точно сеть, своими ячейками охватившая всю землю, как я поняла, прочитав пояснительные тексты под фотографиями, — в шепоте угадывалось нечто потустороннее, он звучал так, будто вдруг обрели голос персонажи немого кино. Глядя на них, хотелось отдернуть занавески, впустить в зал свежий воздух, свет, убедиться, что на улицах лето и вот уже который день стоит безветренный антициклон, жара выше тридцати в тени; вдруг я сообразила, что даже приблизительно не знаю, где расположены города и села, в которых родились эти люди, подумала, что надо бы заглянуть в атлас, посмотреть, где находится Буковина, а где — Банат или Галиция, и вспомнила иллюстрацию, на которую однажды наткнулась в сборнике триллеров: заснеженные склоны Карпат в тусклом свете восходящей луны.
Фотография Хиршфельдера висела по соседству с дверью туалета, — подведя меня к ней, Маргарет засмеялась, но я-то помню, как обиженно прозвучал ее смех. И конечно, только иронией следовало считать то, о чем она затем заговорила: кому как не Хиршфельдеру было знать традиции Австрийского Института, вот уж он-то вряд ли удивился бы, обнаружив свой портрет не где-нибудь, а у входа в сортир, — он же вечно попадал впросак в гостеприимных стенах культурного центра: если в пятницу вечером собирался почитать газеты в здешней библиотеке, она непременно была уже закрыта или библиотекарь отказывал, говоря, что свежая пресса пока не поступила, а то еще: выглядывал из своей будки надутый верзила с физиономией боксера на ринге, собравшегося врезать тебе по зубам, короче, охранник, кстати, его преемник вечно клевал носом, — охранник показывал на часы и говорил, дескать, ничего не поделаешь, его рабочий день закончился ровно десять минут назад. Как ни странно, Маргарет рассказывала все это спокойно, изредка поглядывая на атташе по культуре, который, похоже, уже воспрянул духом и, с подносом, уставленным бокалами, в сопровождении двух секретарш по флангам, как раз проходил через зал, бойко кивая направо и налево; а я представила себе, что Хиршфельдер, получив от ворот поворот, еще и благодарил, потом некоторое время нерешительно шарил на книжных полках, — тех самых, кстати, где мне предстояло искать, но не найти его книгу, — и наконец, ничего не сказав, потихоньку уходил.
Говоря обо всем этом, Маргарет лишь сдержанно покачивала головой, но от меня не укрылось, что ей стоило немалых усилий не осудить Хиршфельдера за столь смиренную покорность.
— Не понимаю, почему он никогда не умел постоять за себя, — сказала она, подводя итог. — Когда я спрашивала, ну почему он терпит такое хамское отношение, он отвечал: это же мои земляки, а земляков мы, хочешь — не хочешь, не выбираем.
Мне это показалось почти парадоксом, однако дальше пошли еще более хитроумные вещи, и я начала понимать, что имела в виду Маргарет, говоря, что подчас ей с ним бывало ох как не просто, — это замечание промелькнуло уже несколько раз.
— Вот так! А во время своих поездок в Австрию всегда выдавал себя за англичанина, объяснял, мол, так надо, дескать, иначе ему не выдержать, — продолжала она. — И никакого противоречия он тут, похоже, не видел.
Я-то пребывала в уверенности, что, кроме одного-единственного раза, он после войны не бывал в Австрии; но когда я сказала об этом Маргарет, ее реакция была, к моему удивлению, резкой:
— Враки!
Ну конечно, кому как не Максу сказать спасибо за неверную информацию; но прежде чем я успела что-то пролепетать в свое оправдание, Маргарет решительно пресекла всякие попытки продолжить обсуждение этой темы, и я прикусила язык.
— Да, действительно, была еще одна поездка по официальному приглашению австрийских властей. — Маргарет как будто неприятно было об этом вспоминать. — Именно так, всего одна поездка, да только и одного раза хватило с лихвой!
Она имела в виду вручение Хиршфельдеру государственной литературной премии Австрии, но подробнее говорить об этом не захотела, как и о прочих чудовищных мероприятиях, — так она выразилась — на которые его приглашали: юбилейные встречи бывших сограждан, после войны оставшихся в эмиграции, эти приглашения были подписаны бургомистром Вены, или поздравления с праздниками Пурим, Песах или Ханука, эти письма он со смешанным чувством вины и недовольства бросал в мусорную корзину, или ни к чему не обязывающие информационные листки еврейской общины, которые даже спустя полгода после его смерти доставляла почта.