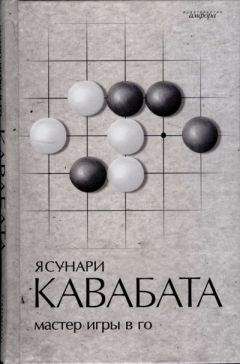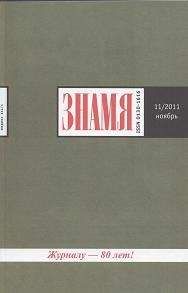В 12.30, когда партию следует отложить, — ход черных. Прошло полтора часа, а хода все нет. Об обеде никто не вспоминает. Госпожа Отакэ, конечно, не может усидеть в своей комнате. Она тоже провела бессонную ночь.
Единственный в семействе Отакэ, кому сегодня удалось поспать, — это Отакэ-младший, замечательный малыш восьми месяцев от роду. Спроси у меня кто-нибудь о характере Отакэ, я просто показал бы этого малыша — живое воплощение бойцовского духа и мужества отца. Сегодня на взрослых тяжело смотреть, и единственное мое спасение — крошка Момотаро.
В этот день я случайно заметил в брови у мастера Сюсая седой волосок длиной около дюйма. И этот длинный волосок на лице мастера с припухшими веками и вздувшейся веной стал для меня еще одним якорем спасения.
Атмосферу в комнате, где идет игра, можно назвать гнетущей. Я стоял на веранде и смотрел вниз на озаренный солнцем сад. Какая-то модно одетая барышня беззаботно бросала в пруд карпам кусочки печенья.
Казалось, я невольно стал свидетелем некоего тайного действа, и не верилось, что игра и это действо совершаются в одном и том же мире.
Обе женщины — жена мастера Сюсая и жена Отакэ были взволнованы, их лица побледнели, а выражение стало жестче. Когда началась игра, жена мастера, как обычно, покинула зал, но вскоре, вопреки обычаю, вернулась и стала наблюдать за мастером из соседней комнаты. Онода, игрок шестого дана, закрыл глаза и опустил голову. Журналисту Мурамацу Сёфу явно не по себе. Даже Отакэ не произносит ни слова и избегает прямо смотреть на своего противника.
Вот вскрывают конверт с записанным 90-м ходом белых. Мастер то и дело склоняет голову то вправо, то влево, 92-м ходом он пошел на взаимное разрезание. Свой 94-й ход он обдумывал 1 час 9 минут. Мастер то закрывал глаза, то смотрел в сторону, иногда наклонялся, словно преодолевая приступ тошноты. Похоже, ему нездоровится. Его облик не выражал обычной внутренней силы. Возможно, виной тому освещение, но контур лица мастера казался размытым, словно призрачным. Даже тишина в зале была какой-то необычной. Игроки сделали 95-й, 96-й и 97-й ходы. Стук камней о доску вселял смутную тревогу, словно эхо в пустынном ущелье.
Над 98-м ходом мастер вновь думал больше получаса. Он часто моргал, рот его был приоткрыт, а веером он размахивал так яростно, словно старался раздуть где-то в глубине своего существа пламя. Трудно понять, как можно играть в таком состоянии.
В это время в комнату вошел Ясунага, игрок четвертого дана. Переступив порог, он сделал церемонный поклон, но ни один из игроков его поклон не заметил. Когда мастер поворачивался в ту сторону, где сидел Ясунага, тот почтительно опускал голову.
Вся сцена выглядела так, словно какие-то демонические силы сошлись в ужасной битве.
Едва был сделан 98-й ход, как девушка-секретарь объявила время: 12 часов 29 минут. В 12.30 запись хода.
— Сэнсэй, вы устали, может быть, отдохнете?.. — обратился к мастеру Онода. Только что вернувшийся из туалета Отакэ присоединился к его просьбе.
— Отдохните, пожалуйста. Не церемоньтесь со мной. Я один подумаю над ходом и запишу его. Обещаю ни у кого не просить подсказки. — Впервые за весь день все рассмеялись.
Все сочувствовали мастеру и не хотели, чтобы он оставался сидеть за доской. Отакэ должен был лишь записать свой ход, поэтому особой необходимости сидеть у мастера не было. Он наклонил голову и некоторое время раздумывал, уйти ему или остаться…
— Пожалуй, еще немного посижу…
Но тут же встал и отправился в туалет. Вернувшись, он зашел в соседнюю комнату и затеял веселый разговор с Мурамацу Сёфу. Вдали от доски мастер выглядел на удивление бодро.
Оставшись один, Отакэ впился глазами в позицию белых в правом нижнем углу. Он думал 1 час 13 минут и уже во втором часу пополудни записал 99-й ход: нодзоки в центре доски.
В то утро, когда организаторы матча зашли в номер Сюсая и поинтересовались, где он сегодня хотел бы играть: во флигеле или на втором этаже главного корпуса, мастер ответил:
— Я пока не могу выходить на улицу и предпочел бы главный корпус. Но Отакэ-сан как-то говорил, что в главном корпусе ему мешает шум водопада. Спросите у него. Будем играть там, где он захочет».
Волосок мастера Сюсая, о котором я упомянул в репортаже, был седым и рос на левой брови. Однако на снимке покойного длинными получились волоски правой брови. Не могли же они вырасти после смерти! И потом, брови у мастера не были такими длинными. На снимке волоски были явно длиннее, а ведь фотография не может врать.
Я фотографировал аппаратом «Контакс» с объективом «Зонар 1.5», и хотя я плохо разбираюсь в технике съемки, все же вижу, что объектив сработал как надо. Ему ведь все равно: живые или мертвые, люди или предметы. Ему незнакомы ни восхищение, ни почтительность. Если я не напутал при съемке, то «Зонар 1.5» снял все точно. Благодаря объективу снимок покойного получился богатым и мягким по тональности.
До глубины души поразило меня то настроение, которым веяло от снимков и создавалось мертвым лицом мастера. Ведь лицо человека всегда что-то выражает, хотя у покойного за этим выражением не скрывается, конечно, никаких чувств. Мне даже стало казаться, что фотографии изображают человека не живого, но и не мертвого. Он получился как живой, только спящий. Нет! И это не так. Смотришь на снимок и понимаешь, что это покойный, но все равно чувствуешь в нем что-то, говорящее и о жизни, и о смерти. Возможно, это объясняется тем, что на снимках у покойного такое же лицо, как и у живых? Быть может, лицо напоминает о многом, что случалось, когда мастер был жив? Или все дело в том, что передо мной не само мертвое лицо, а лишь его фотография? Удивительно и то, что на фотографии лицо мертвого видно гораздо отчетливее и подробнее, чем воочию. И еще мне подумалось, что эти фотографии стали для меня символом чего-то тайного, на что непозволительно смотреть.
Потом я пожалел, что сделал фотографии покойного. Бездушный все-таки поступок. Нельзя сохранять мертвое лицо на фотоснимках. Хотя правда и то, что они напоминают о необычной жизни мастера.
Мастера Сюсая никак нельзя было назвать красивым, а его лицо — утонченным. Скорее оно было худощавым и грубоватым. Красотой не отличалась ни одна из черт его лица. Мочки казались расплющенными, рот был большим, а глаза, наоборот, маленькие. Благодаря долголетней практике, фигура мастера за доской выглядела непоколебимо спокойной, и что-то от этого спокойствия осталось даже на фотографии. Складки сомкнутых век выражали глубокую скорбь, как, впрочем, бывает и у спящих.
Стоило перевести взгляд с лица мертвого мастера на его грудь, как начинало казаться, что перед вами марионетка, у которой есть только голова, а тело задрапировано кимоно с панцирным узором. Это кимоно надели на мастера уже после смерти — оно не было подогнано по фигуре и там, где начинаются рукава, топорщилось. Создавалось впечатление, что тело мастера от груди постепенно сходит книзу на нет. Врач в Хаконэ сказал, что удивляется, как мастеру хватает сил передвигаться. И когда его тело выносили из гостиницы «Урокоя» в машину, по-прежнему казалось, что в гробу находится только голова и грудь. Я впервые увидел Сюсая, когда приехал писать о ходе матча, — уже тогда мне бросились в глаза его крошечные колени. И на фотографиях покойного господствовало лицо. Что-то жуткое было в этой отдельно лежащей голове. Возможно, так казалось потому, что на них было лицо, запечатленное в последний миг драмы, лицо человека, настолько захваченного своим искусством, что оно утратило свои реальные черты. Быть может, я запечатлел на этих снимках лик судьбы человека, отдавшего жизнь служению высшим идеалам. Искусство мастера исчерпало себя в последней партии — ею же завершилась его жизнь.
Вряд ли когда-нибудь церемония открытия обставлялась с такой пышностью, как в этом матче. Черные и белые сделали всего по одному ходу, после чего начался банкет.
Еще стоял сезон дождей, но в этот день, 26 июня 1938 года, вдруг выглянуло солнце, и облака были по-летнему легкими. Веранда во дворе павильона Коёкан в парке Сиба была омыта дождем. На редких листьях бамбука поблескивали солнечные лучи.
В парадном углу зала на первом этаже сидели мастер Сюсай Хонинобо XXI и претендент Отакэ, игрок седьмого дана. Слева от мастера Сюсая сидели Сэки-нэ XIII и Кимура. Оба они в разное время имели титул мастера сёги. За ними сидел Такаги, мастер рэндзю[12].
Всего в зале присутствовало четыре мастера. Все они были приглашены на церемонию открытия последнего матча Сюсая Хонинобо. Я, журналист, сидел рядом с мастером Такаги. Справа от Отакэ сидели издатель и главный редактор нашей газеты, секретарь и директор японской Ассоциации го, три престарелых профессионала седьмого дана, судья матча Онода и несколько учеников Сюсая.