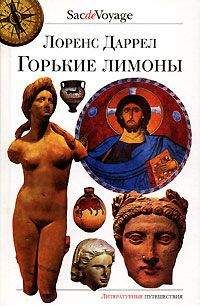— Что это за место? — спросил я у водителя, и тот, соизволив нехотя повернуть некрасивую голову на заплывшей жиром шее, ответил голосом, исполненным ленивого презрения: — Аматунт.
И тут же принялся фальшиво насвистывать какую-то мелодию, а я полез вверх по обрыву, поближе к развалинам храма. Место для акрополя было выбрано со знанием дела: он вознесся над дорогой именно в том месте, где она поворачивает от моря в глубь острова. Священник и воин в равной мере были бы удовлетворены этим выбором. С вершины взор беспрепятственно скользит по свежей зелени прибрежья, причудливо расцвеченной пятнами виноградников и пропадающей вдали, у Кошачьего мыса и Куриума. То там, то здесь виднеется грубая плетенка рожкового дерева, в то время мне еще не знакомого. Я обратил внимание, что часть этих деревьев посажена в самой середине полей, явно предназначенных для ячменя или пшеницы, возможно, чтобы дать стадам тень в безжалостную августовскую жару. Рожковое дерево — странное дерево с красной древесиной; если отломить ветку, на стволе останется рана, цветом похожая на отверстую человеческую плоть.
Мой водитель с унылым видом сидел у обочины, но вся его манера странным образом переменилась. Я терялся в догадках, пытаясь хоть как-то объяснить невесть откуда взявшуюся у него на лице улыбку, пока не увидел у него в руке мой маленький томик греческих народных песен, который он выудил из кипы газет, оставленных мной на заднем сидении. Перемена с ним произошла разительная. Совершенно неожиданно он превратился в хорошо образованного и не лишенного обаяния молодого человека, вежливого и деликатного. Мне захотелось как следует, не торопясь, осмотреть руины? Если нужно, то он готов остаться здесь хоть до самого утра. Место и в самом деле примечательное. Именно здесь в действительности и высадился когда-то Ричард Львиное Сердце[8].
— Мне это рассказал брат, а он работает в Музее, — сказал молодой человек. Что же касается Аматунта, то именно там Пигмалион… Тут он снова нырнул в багажник и вернулся с бутылкой узо[9] и куском желтого шланга, в котором я тут же признал сушеного осьминога. Мы сели у дороги в лучах нежаркого весеннего солнца и стали по очереди прикладываться к металлическому стаканчику и к мезе, пока он рассказывал мне не только все то, что знает об Аматунте, но и все-все-все про собственную жизнь, и про жизнь своей семьи с таким вниманием к деталям, которое, пожалуй, было бы несколько менее утомительным, если бы я намеревался писать роман. Однако кое-что в его рассказе заинтересовало меня всерьез: он постоянно упоминал некую тетку, которая страдала сердцебиением и поэтому вынуждена была жить на Троодосе, на самой верхотуре; впрочем, великолепный узой дружелюбие моего попутчика совершенно преобразили поездку, разом рассеяв мое раздражение и дав мне возможность посмотреть на все вокруг свежим взглядом.
Мы медленно поехали прочь от моря, по дороге, которая, петляя между виноградниками, круто пошла вверх, то и дело минуя крохотные белые деревушки, украшенные одним и тем же лозунгом: ЭНОСИС И ТОЛЬКО ЭНОСИС[10]. Я понимал, что с моей стороны было бы преждевременно испытывать национальные чувства собеседника, и воздержался от комментариев по поводу этого вездесущего элемента пейзажа. Иногда навстречу нам попадался то грузовик, то изящный лимузин, и ни разу не обошлось без обмена приветствиями. Мой новый гостеприимец опускал стекло и кричал на ходу что-нибудь этакое, и тут же разворачивался в мою сторону, чтобы пояснить: «Это Петро, мой друг», «Это двоюродный брат моей тети», «Это друг моего дяди». Очень милая греческая манера.
— Вам он понравится, — неизменно добавлял он, вежливо включая меня в обмен любезностями. — Пьет как лошадь. Это надо видеть, как он пьет!
Таким образом мы ознакомились с целой галереей выдающихся пьяниц, потихоньку добивая на ходу нашу собственную бутылку узо и калякая о том о сем, как старые друзья.
— Такое впечатление, что нет здесь ни одного человека, с которым вы бы не были знакомы, — восхищенно сказал я, и он со скромной улыбкой принял комплимент.
— Кипр — остров маленький. Тут примерно шестьсот деревень, и, судя по всему, в каждой из них у меня есть либо друг, либо родственник. Это значит, у меня есть право выпить на дармовщинку как минимум шестьсот раз, — мечтательно проговорил он.
— Судя по всему, я приехал в самое что ни на есть правильное место.
— Мы тут по вину просто с ума сходим.
— Рад это слышать.
— И по свободе — нашей свободе.
Чтобы последняя реплика не показалась невежливой, он схватил меня за руку и с чувством сжал ее, одарив меня широкой дружеской улыбкой.
— Но мы любим британцев. Разве можно не любить британцев, если ты грек?
— Неужели все тут настолько скверно, что вам захотелось избавиться от британцев?
Он набрал полную грудь воздуха и устало выдохнул: «Нет» — так, словно подобный вопрос мог задать только безнадежно невежественный человек, или малый ребенок, или деревенский дурачок.
— Нам не хочется прогонять британцев; мы хотим, чтобы они остались; но только как друзья, а не как хозяева.
Мы глотнули еще по чуть-чуть и покончили с осьминогом.
— Друг мой, — сказал он, и в самом факте использования этого устаревшего, достаточно официального обращения было что-то обезоруживающее. — Не нам учить вас тому, что такое свобода — вас, людей, которые принесли свободу в Грецию, на Семь островов. Почему мы называем вас Филелефтери — «Те, кто любит свободу»? В сердце каждого грека…
Заключительная часть речи знакома всякому, кто когда-либо бывал в Греции. За свою жизнь я выслушал ее, наверное, не одну тысячу раз. Но здесь, на Кипре, я был вдвойне рад, вдвойне обнадежен возможностью услышать ее снова — ибо это означало, что былая эмоциональная связь все еще жива, что тупой бюрократизм и дурные манеры не успели окончательно ее разрушить. И покуда, она жива, пусть даже такая наивная и хрупкая, на Кипре ни за что не начнут стрелять — по крайней мере, так мне тогда казалось.
Под воздействием этой интеллектуальной интермедии — или дело было все-таки в неразбавленном узо— мы вдруг понеслись вперед на действительно более чем приличной скорости, с ревом взлетая на пригорки и вереща тормозами на поворотах. И вот, наконец, вдалеке показалась Никосия: хрупкие застывшие фонтаны Большой Мечети и туманные очертания средневековых бастионов. Пересекая сухую коричневую равнину, мы видели, как вдалеке маячит, словно повисая высоко над землей, Киренский горный кряж, беловато-серый на фоне блеклого весеннего неба. В воздухе стоял свежий запах только что пролившегося дождя.
Незаметно для себя мы выехали на огромную голую равнину под названием Месаория, посреди которой расположилась столица Кипра.
— Мы оставим ее с левой стороны, — сказал молодой человек, — а сами поедем вверх и на ту сторону. В Кирению.
Его рука описала траекторию полета ласточки — что ж, стрелка на спидометре и в самом деле уже перевалила за цифру семьдесят[11] Бутылка узо опустела, и, без всякого уважения к проезжающим мимо великим пьяницам, мы роскошным жестом отправили ее в придорожную канаву.
— Часа не пройдет, — сказал он, — а вы уже будете возле Купола.
Его рука быстрым выразительным жестом вычертила в воздухе последовательность шпилей и куполов, башен и эркеров. Гостиница, судя по всему, была архитектурным воплощением творчества Кольриджа.
«Опираясь на недавние исследования, ученые относят начало истории Кипра к эпохе раннего неолита, когда (около 3700 г. до н. э.) остров был впервые заселен неким предприимчивым народом, происхождение которого до сих пор остается неясным».
(«Колониальный доклад» — Кипр, 1954)
Если пришлось тебе приехать к стенам Кирепии,
Не заходи внутрь.
Если пришлось зайти внутрь,
Не оставайся надолго.
Если пришлось задержаться надолго,
Не женись.
Если пришлось тебе все-таки жениться,
Не заводи детей.
(Турецкая песня)
* * *
Пока не прибыли мои основные пожитки, и пока я был занят первоначальным изучением местности, поселиться пришлось у моего друга Паноса, школьного учителя, в двух маленьких комнатках с видом на гавань Кирении, единственного порта на всем Кипре, в котором — миниатюрном, красивом, раскрашенном в чистые цвета — явно обнаруживался характерный кикладский allure [12].
Панос вместе с женой и двумя маленькими сыновьями жил в доме, который когда-то, очевидно, был частью церкви Св. Михаила Архангела. Одолев сорок сияющих на солнце беленых ступенек, вы попадали в выложенный камнем внутренний дворик: в древности здесь наверняка находился городской акрополь. Прямо над нами возвышалась церковная звонница, воинственным колокольным звоном возвещая о начале каждой службы, а тем временем над лазурной гаванью бело-голубой греческий флаг осторожно примерялся к легкому бризу.