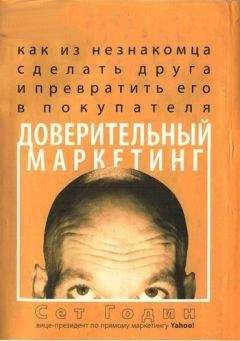— Часы, говорю, у вас хорошие, должны ходить и ходить…
В глазах напротив мелькнуло недоверчивое понимание.
А вдали уже мельтешила задница расторопного адъютанта, ринувшегося за драгоценным имуществом командира, и вскоре, утирая пот со лба околышем фуражки, тот протянул комдиву ладонь, и лежали на ней безмятежно тикающие часы… Нить-подвес, просунутая в замок ремешка, была оборвана на сантиметр.
Комдив, ухватив этот кончик нити, победно продемонстрировал часы притихшей офицерской ватаге. Затем обратился к комполка:
— Думаешь, ты спор выиграл? Не-е, он! — И ткнул пальцем в Серегина. — Ты у нас кто? — Снисходительно покосился на лычки. — Сержант? Уже сегодня — старший сержант, и — десять дней отпуска.
— И — «Отличник советской армии», — прибавил комполка, кивнув. — Внести в военный билет, — оглянулся на ротного.
— Как же ты… в нитку-то? — Внезапно опомнился комдив, глядя на осыпанного внезапными милостями сержантика в застиранном «хэбэ». — Это ж мистика, что за фокусы?
— Я просто… так умею стрелять.
— Ды-к… тебе в спортсмены надо… Ты же первым чемпионом стать способен!.. Твою мать, а?! Да тебя бы на поля Великой отечественной! — Усмехнулся. — Первым апреля с немцем бы закончили…
Знал бы советский генерал, что стоит перед ним будущий снайпер армии США, но до табачно-шпинатной американской униформы предстоит ему, Серегину, стоптать еще немало подметок на иных скользких и жестких стезях…
Но — стоп! Сейчас он за праздничным столом в стародавней советской Москве, и висит на спинке кухонного стула китель с сержантскими погонами, а в глазах — лицо мамы, а в голове — блаженный кавардак и — предчувствие новой замечательной жизни.
И все-таки он не выдержал: встал из-за стола, надел свитер, джинсы, курточку, поймал такси и поехал к Анне: не мог не увидеть ее сегодня, как ни старался удержать в себе свою вымученную отчужденность к ней: мол, была первая любовь, пусть и останется первой…
Они были ровесниками, и познакомились за три месяца до его забрития в армию. Он увидел ее в метро. Она уже выходила из вагона: высокая, ладная, русоволосая, с прозрачными, словно смеющимися глазами, а он стоял у противоположных дверей, понимая: еще миг, и она смешается с толпой, и надо ринуться следом, позабыв все дела, а иначе не будет ему покоя никогда. Но он словно прирос к полу вагону, не в силах двинуться, оправдывая себя блажью и суетностью такого порыва, но, когда двери уже начали смыкаться, тогда — в стремительном рывке через сомнения и леность, он протиснулся через тиски резиновых створок на перрон, и тут она обернулась, увидела его, а он произнес в растворенный в ее глазах мир:
— Я… в принципе… за вами…
— В каком-таком принципе?
— В самом главном!
Три месяца их била лихорадка неутолимой бесшабашной страсти. Они словно вросли друг в друга, не видя вокруг ничего. Но только серенький листок повестки из военкомата на его письменном столе лежал неотвратимым и беспощадным приговором будущей пропасти разлуки.
Следующий год едва ли не каждый день он писал ей, а она ему. И вдруг:
«Встречалась с одноклассниками. Был Сашка — помнишь, рассказывала о нем? Предложил мне бросить мой педагогический, перевестись на журналистику в университет. Сашка учится, но работает уже в газете, пусть внештатно. Такой молодец! Думаю, стоит попробовать.»
Ах, вот уже и Сашка-молодец!
Он перечитывал ее письмо, дрожа от ярости. Время близилось к отбою, рота строилась к вечерней поверке, и тут одногодок-сержант шепнул:
— День рождения сегодня, проставляюсь. Водяра и закусь в каптерке. Дневальный на стреме. Уложим роту, запремся и гуляем, понял?
— Мне не повредит, — усмехнулся он.
Проснулся по подъему. Голова гудела как монастырский колокол при набеге врага. Тошнота выворачивала нутро. И точило сознание какой-то жуткой ошибки, совершенной в пьяном забвении вчерашнего угара…
И только после завтрака, к которому не прикоснулся, спросил одного из вчерашних собутыльников:
— Как я? Не выступал особо?
— Не, ты у нас письма вчера писал… Подруге, мы так поняли.
— Какие письма?
— Писал — рвал, писал — рвал… Ты зря убиваешься, это — с каждым вторым… Как говорится, помни солдат: стоя на посту, ты охраняешь спокойный сон того парня, что дрыхнет с твой девушкой… Хорошо, у меня одни шалавы в истории, все с чистого листа начну…
— Так письма-то где?
— Черновики в сортире… А окончательный вариант ты в конверте дежурному отдал…
— Как?!
Сержант-собутыльник мрачно посмотрел на часы:
— Почта уже двадцать минут как того… Так что — жди реакции…
Ответ пришел через неделю. Тоненький конвертик и куцый листик бумаги. И одно лишь слово на нем: «Прощай».
Больше он ей не писал. И она ему тоже.
Автобус довез его до знакомой остановки. Он вошел в подъезд, позвонил в ее квартиру. Открыла она. Родная, нежная, милая… Он захлебнулся словами. И сказал — не раздумывая, как дышал:
— Я так ждал тебя…
— А как тебя ждала я…
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Чистые пруды». Серегин остановил взор на газете, деловито разворачиваемой пассажиром, сидящим напротив. Заголовки первой полосы интриговали:
«Ку-клукс-клан по ошибке провел агитацию среди афроамериканцев.»
«Женщина, умершая во время секса, ожила в гробу».
«В США приняли за новость убийство Франца-Фердинанда».
«Приставы принудительно установили унитаз жительнице Челябинска».
Интересно бы почитать… Впрочем, ему есть, чем отвлечься. Давай-ка, вновь оживай машина времени, крути свои волшебные несусветные шестеренки… Куда отправимся на сей раз? Обратно в ночную пустыню?
…Они появились у него со спины. Уж что-что, а этого никто не ожидал. Осведомитель доложил, что машина с террористами должна появиться на грунтовке ночью, хотя предварительный разведосмотр ими окрестностей не исключался, а потому три снайпера, отвечавшие каждый за свой сектор, были устроены на лежки заблаговременно. Сомнительный выигрыш цели выпал на сектор его, Олега. Однако никакой машины с дозором врага, которую ждали, не появилось: мимо, буквально в метре от него, со стороны пустыни, прошли шестеро мужчин в местной просторной одежде, в легких меховых безрукавках, но без оружия, налегке, хотя двигались настороженно, переговаривались шепотом, а один то и дело вглядывался в прибор ночного видения. Но где же тогда фугас, лопаты… Или это и есть разведгруппа? И в ней шесть человек, целая толпа? Странно…
Люди были поджары, стремительны в своих движениях, от них веяло уверенностью, коллективной слаженностью и способностью не раздумывая дать отпор. Они являли собою единую боевую машину, все части которой были притерты друг к другу, как часовой механизм. Но, в отличие от механизма, вывод из строя одной шестерни не означал его остановки: другие шестерни мгновенно бы взяли на себя утраченную функцию. И уже в закономерной неизбежности выстрела Олег осознал нутром выстраданное товарищество этих людей, их справедливую убежденность в своем деле и то, что, уничтожив их, возьмет на себя грех, неоправданный никакой войной и необходимостью выполнения приказа.
Да и за что ему было воевать? За доминирование США во всем мире? За интересы всякого рода корпораций? Здесь, на этой войне он оказался по случаю, а вернее, просто сбежал на войну от нехороших парней, способных свести с ним счеты, и теперь просто выжидал время, чтобы вернуться обратно с некоторой суммой сэкономленной зарплаты.
И чего ради вешать на себя груз смертоубийства?
Люди подошли к обочине, покопались в песке, извлекли из него лопаты, а после — некий увесистый предмет, обернутый в ткань. Он понял: это — заранее упрятанный здесь фугас, а перед ним — не разведгруппа, а саперы, приступающие к минированию дороги.
Вызвал «базу», шепотом доложил о появлении «гостей». Начальство чертыхнулось досадливо, осознав недостоверность вводной информации, а после прозвучал приказ: уничтожить противника, не дав не ему уйти в ночь.
«Да пошли вы…» — подумал он отстраненно, приникая бровью к резиновой чашке прицела.
Сухой щелчок бесшумного и беспламенного выстрела. Разверзлась лоскутами дубленая кожа безрукавки на плече одного из арабов, выскользнул из его рук фугас, тут же подхваченный двумя присевшими от внезапной тяжести напарниками, донесся гортанный болезненный вскрик. И тут же сметливые умы воинов уяснили таившуюся в темноте погибель, тут же, оставив на песке снаряд и, подхватив подранка, метнулись через дорогу, где валялись брошенные их соратниками лопаты. А соратники, петляя, уже скрывались в темени пустыни, но стрелять им вслед Олег не собирался, краем глаза узрев ослепительное око поисковой фары поднявшегося из-за далекой каменной гряды вертолета. В вертолете — снайпер, в распоряжении летчика — пулеметы, и если у летунов приказ по открытию огня на поражение, цена его, Олега, гуманизма — гневная выволочка за халтурное исполнение воинского долга. Хотя — кому он здесь чего должен?