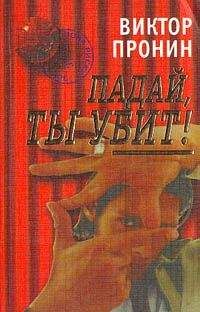2
Ну ладно, сбегал Шихин за вином, выпил с друзьями, которые недавно столь дружно проголосовали за его изгнание, и отправился домой. Игонина и Моросилова, раскрасневшиеся от выпитого и потому необыкновенно привлекательные, видели из окна четвертого этажа, как Шихин вышел из подъезда и, запахнувшись в серое пальтецо, надвинув берет на лоб, сунув руки в карманы, зашагал через необъятную площадь. В этот сумеречный час не было на ней ни единого человека, только ветер гнал поземку, трепал шихинские штанины, гудел в трамвайных проводах. По самой середине площадь рассекали трамвайные рельсы, и пока Шихин приближался к ним, пронеслись, роняя искры, два красных трамвая — освещенные изнутри, заиндевевшие, с темными контурами пассажиров. Один прогрохотал направо, другой — навстречу ему, налево. Шихин посмотрел вслед одному, другому и зашагал дальше. И вскоре скрылся в просторах необъятной площади. А девушки, склонившиеся на подоконник, тут же забыли о нем, заговорили о вещах более приятных и насущных. Они были молоды, красивы, и тягостные раздумья не задерживались в их очаровательных головках.
А Шихин, Шихин никогда больше не поднимется на четвертый этаж этого стылого здания и не войдет в редакцию «Моложавого стяга».
Моросилову он встретит лет через десять в Ялте, на набережной, душным вечером. Не удержалась и она в той газете, уехала и увезла в другие города зовущую свою походку, лучистый взгляд и непреходящую грусть по поводу несовершенств мира. Судьба ее затерялась среди сотен газет средней полосы России, и найти Моросилову вряд ли возможно, тем более что, как слышал Автор, фамилия у нее несколько раз менялась и каждый раз на совершенно неожиданную, а однажды даже непотребную. Она, как и прежде, выступает на собраниях, а если кого вышибают, очень огорчается, переживает прямо до слез и никогда не забывает пожелать вышибленному скорейшего исправления, желает ему найти свое место в жизни, свое призвание, чтобы приносить как можно больше пользы.
Шихин и Моросилова обрадовались друг другу, бросились в объятия, немного поболтали о старых временах, потом заскучали и разошлись. У Моросиловой осталась прежняя поющая походка, печальный голубой взгляд и насморк, непроходящий насморк, который даже здесь, на южном берегу Крыма, не отпускал ни на один день. Пока она разговаривала с Шихиным, на углу ее нетерпеливо ждал летчик с Камчатки, заслуживший эту поездку рискованными полетами и почтительным отношением к начальству. Он чуть раздраженно похлопывал по ноге прутиком, и от его зеленой штанины отлетала легкая, почти невидимая пыль. Уходя, Моросилова оглянулась на Шихина, и в глазах ее он увидел знакомую грусть расставания. Она махнула ему рукой — простой, трогательный взмах, от которого у Шихина могло бы разорваться сердце, будь он хоть немного влюблен в Моросилову. Она крикнула «Счастливо!», и навсегда в нем остался этот ее вскрик, словно от боли. А летчик, не связанный с Шихиным прежней жизнью, медленно удалялся в сторону гостиницы «Ореанда». Вот Моросилова догнала его, летчик отставил в сторону локоть, Моросилова ухватилась, и они пошли рядом.
А с Игониной Шихин встретится только через пятнадцать лет, в Москве, на станции метро «Пушкинская». Игонина будет весела, в манто и с ридикюлем. «Ну, ты даешь, Митяй! — воскликнет она прежним голосом. — Слышала, слышала, все про тебя знаю!». И исчезнет в вечерней московской толпе. К большому своему сожалению, Шихин так и не увидит ее коленок, но, судя по манто, они оставались в порядке. Впрочем, в Москве хорошие коленки редкость, поэтому, если судить только по манто, можно ошибиться.
У Игониной вначале дела пошли куда как хорошо, она стала расти административно и, как это ни огорчительно, слегка поправилась, однако коленки ее при этом нисколько не потеряли привлекательности, даже наоборот. Случилось так, что из-за этих коленок она и погорела — слишком много завертелось вокруг них событий, слишком много участников оказались замешанными, и уцелеть удалось не всем. Да-да, аморалка, как ни прискорбно произносить это слово. Но ни Шихин, ни Автор не нашли в себе сил осудить Игонину, а если о чем и сожалеют по сей день, то лишь о том, что в той соблазнительной круговерти они оказались ни при чем. Жаль, очень жаль. Игониной пришлось поменять специальность, теперь она преподает, читает лекции на разные темы, отдавая предпочтение перестройке и ускорению демократизации в общественной жизни. Но иногда ей вспоминается бурная политическая молодость, и она, тряхнув стариной, возьмет да и прочтет что-нибудь о Распутине, Родзянко, Романове. Естественно, с осуждением, но дело не в этом. Если бы вы видели, как при этом пылают ее щеки, горят глаза, как светятся эти... коленки, будь они неладны!
Увидит Шихин однажды и Прутайсова. Это произошло в те времена, когда еще можно было невзначай остановиться у пивного ларька и, отстояв очередь в пять человек, взять кружку пива. Ныне количество ларьков уменьшилось в сотни раз, соответственно увеличились очереди, так что нетрудно вычислить, в каком примерно году они встретились. Так вот, отрывается Шихин от своей кружки и неожиданно видит устремленный на него глаз, плавающий над пивной пеной. «Узнаешь?» — спросил Прутайсов. «Узнаю», — ответил Шихин и только после этого понял — перед ним бывший редактор. Лицо Прутайсова стало еще обильнее, пошло складками, как у породистого пса, второй глаз так и не прозрел, несмотря на громадные успехи Святослава Николаевича Федорова. Пиджак на Прутайсове был тесноват, рубашке в коричнево-зеленую клетку недоставало нескольких пуговиц, но самая верхняя оказалась на месте и была застегнута. Прутайсову было душно, в седоватой щетине щеки нависали над воротником, но бывший редактор, видимо, полагал, что застегнутая верхняя пуговица подчеркивает достоинство. «Ну как, не посадили?» — спросил он. «Пока нет», — ответил Шихин. «Ну и ладно, и хорошо. А то могли...» — как бы для себя проговорил Прутайсов и больше не обронил ни слова. Молча допил пиво, вытер ладонью рот, подмигнул глазом, повернулся и ушел, помахивая пустоватым портфелем.
Глядя вслед удаляющейся грузной фигуре, Шихин никак не мог вспомнить — что же тогда, при увольнении повергло его в такое горе? И газетенка-то была никудышная, осторожная и почтительная, печатала какие-то производственные сводки, сообщала о сверхплановых килограммах, километрах, кубометрах и была скорее вестником соревнования металлургических гигантов, нежели газетой в полном смысле слова...
Взяв еще одну кружку пива и вернувшись к высокому круглому столику, заваленному рыбьей шелухой, Шихин подумал, что тогда, наверно, все получилось не самым худшим образом — Прутайсов не стал для него выдающимся мыслителем, Игонина и Моросилова не затмили остальное человечество, Нефтодьев не заразил опасливостью и подозрительностью. И от воробышка своего, от Тхорика, он тоже спасся, а ведь тот действительно мог отучить Шихина паясничать, а это уже было бы самым страшным. Ныне Тхорик, или как там его, говорят, далеко залетел, в теплых странах обитает, заморские зернышки поклевывает. Правда, какашечки роняет, как и прежде. Крепится, крепится, а потом возьмет, да и уронит. И до того, сукин сын, наловчился, что ни одна какашечка зря не пропадает, обязательно в кого-нибудь угодит. И все: тот человек уж больше не жилец — начинают к нему присматриваться, прислушиваться, принюхиваться, обязательно кто-нибудь на него кулаками постучит, ногами потопает, пальцем погрозит, в общем, усомнится. И все, конец человеку. Нет его. А там ищи-свищи — чья какашечка ему на голову свалилась, кто ее изготовил своим организмом, с какой целью уронил, в него ли метил или в кого еще...
Нет, уберегла Шихина судьба от всей этой напасти и нечисти, остался жив. А ведь не все уцелели, не все. Хотя многим тогда казалось, что куда как хорошо жизнь наладилась — хвалил Прутайсов, здоровался Тхорик, Игонина одаривала шалой улыбкой, Моросилова мерцала вслед глазами, а навстречу шла так влекуще, так призывно и столь на многое готовой, что... А Нефтодьев кивал головой и делился мыслями. А за заметки на сто строк Прутайсов платил трешку, а то и две. Это казалось счастьем, успехом, победой на все времена...
Шихин допил пиво, взглянул вдоль улицы, куда все еще удалялся Прутайсов, и зашагал в противоположную сторону. Через несколько минут он вышел к залитой закатным солнцем маленькой горбатой площади, через которую, не торопясь, ковылял красный трамвай. Неужели это та самая площадь? Да, ребята, да! Та самая. А припомните-ка свои дворы, заборы, припомните свои трамваи... От них исходил звон пронзенного насквозь пространства, у них из-под колес летели искры, на поворотах они закладывали такие виражи, что дух перехватывало! А сейчас... Они кажутся развалюхами, хотя работники трамвайного управления и утверждают, что скорости их растут, как и вместимость, долговечность, а с точки зрения экологии им вообще цены нет!