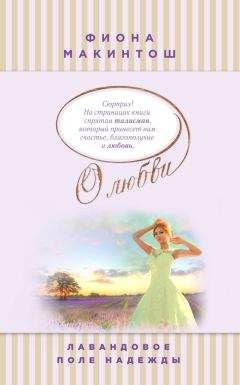— Schutzhaft ?
Он знал значение этого слова — арест и защита, — но при чем тут оно?
— Благородное гестапо намерено нас, евреев, оберегать. Предупредительное заключение, опека с целью защиты — вот как это называется. Красивое название — просто фасад, под прикрытием которого они намерены нас всех упрятать за решетку.
— В тюрьму?
— И не только нацисты. Наши французские власти тоже приложили руку.
— Но ведь генеральный комиссариат по еврейским вопросам…
Отец сплюнул на землю между ними. От потрясения Люк не закончил фразы.
— Алчные продажные твари! — припечатал Якоб. — Правительство Виши с радостью приняло антиеврейские указы и до того озабочено тем, как бы все, что было у нас конфисковано, не попало в лапы немцам, что большинство наших друзей с оккупированных территорий стали беженцами или очутились в лагерях для перемещенных лиц. — Якоб невесело рассмеялся. — А мы… мы облегчили им эту задачу. Как покорные бараны, выполняли все, что от нас требовалось, сами являлись в префектуры для регистрации — называли свои имена, имена родителей, детей, адреса. Теперь у них есть полные сведения о каждом еврее во всем Париже. Да насколько я знаю — во всей Франции!
— Ну, это же просто список… — начал Люк.
Якоб ухватил его за рукав.
— Не просто список, сынок! Информация. А любая информация — это власть! Я с девятнадцати лет веду свое дело, я знаю: информация — ключ ко всему. Вот почему я отдал тебе лавандовые плантации. Я хочу, чтобы ты пораньше выучился, понял, что такое ответственность, усвоил ровно то, о чем я сейчас твержу. Деньги дают ощущение непобедимости, но ты сам видишь, сколь хрупок этот щит — мои деньги не способны защитить нас, когда нам так нужна защита. Настоящая сила в информации, а у властей теперь есть все, что только может им понадобиться, — потому что мы сами кротко рассказали им, как нас найти, сколько у нас детей, как их зовут, даже фотографии предоставили! Власти конфисковали нашу собственность, наши картины, столовое серебро, кресла, в которых мы сидели, столы, за которыми ели. И никто и не думает сопротивляться!
Люк в оцепенении молчал.
— И опять же, спасает нас — информация. Я знал, что нам жизненно необходимо покинуть Париж, что там вот-вот произойдет нечто ужасное, — потому что я всегда слушал в оба уха и платил нужным людям за сведения. Я предостерегал остальных, однако не все мне поверили и теперь вынуждены будут заплатить за неверие чудовищную цену. Даже здесь нас могут выследить. Отловить, точно паразитов, вредителей!
Голос старика прервался. Якоб закрыл лицо руками.
Люк сглотнул. Все оказалось еще хуже, чем он боялся.
— Ну, верится ли? — спросил отец. — Концентрационные лагеря для честных богобоязненных граждан, французских патриотов, чьи сыновья сражались и умирали во имя родной страны. А теперь нас запирают в чертовых дырах вроде Дранси!
Люк никогда не слышал, чтобы отец так выражался. Однако в голосе Якоба звучал не гнев; им завладела выплеснувшаяся на поверхность скорбь.
— Началось с одиннадцатого округа — они забрали тысячи евреев и увезли в Дранси… в прошлом году, так сказать, на официальное открытие. И будет только хуже. Помяни мое слово.
— Почему ты мне ничего не рассказывал? — потрясенно спросил Люк.
Отец пожал исхудавшими — аж больно смотреть — плечами.
— А что бы ты сделал? Я хотел, чтобы ты находился здесь, чтобы взял на себя плантации. От нас зависит заработок множества людей.
— А девочки, они?..
— Сара мечтает посещать университет, изучать историю живописи. Мечтает ходить на лекции… — С губ Якоба сорвался сдавленный стон. — Но евреев и близко к занятиям не подпускают! Ракель сознает, что происходит, но не желает обсуждать это при матери и перестала играть. Гитель… — Он улыбнулся еще печальней. — Надо постараться, чтобы она как можно дольше оставалась в неведении. Хотя будет только хуже.
— Папа, перестань так говорить! Обещаю, здесь мы сумеем уберечь семью.
Якоб уныло поцокал языком.
— Хватит мечтать, Люк!
Упрек попал в цель. В достоверности услышанных сведений сомневаться не приходилось. Семье с такой религией и таким происхождением, как Боне, оставаться в оккупированном Париже было опасно и даже невозможно.
Отец затянулся и на миг прикрыл глаза, наслаждаясь трубкой.
— Так квартира в Сен-Жермене?..
— Реквизирована, — мрачно ответил старик, не открывая глаз. — Немцам нравится Левый берег. Последние несколько месяцев мы жили у друзей. Не хотел тебя зря тревожить.
Обычно отец был жизнерадостнейшим оптимистом на свете, но сейчас голос его звучал столь подавленно, что в сердце Люка закрался самый настоящий страх.
— Какой сегодня день? — спросил Якоб.
— Суббота.
— Выходит, уже две недели…
Люк нахмурился.
— Что стряслось две недели назад?
— Ну, ты же знаешь, что Комиссариат по еврейскому вопросу санкционировал все немецкие инициативы, и глазом не моргнув?
Люк кивнул, однако не стал признаваться, что до сих пор не понимал: Комиссариат ничуть не меньше Гитлера нацелен на дискриминацию еврейского народа. При всей неприязни Люка к немцам основная его ненависть была направлена на местную французскую milice . Для жителей провинции милиция являла собой куда более зримую и требовательную силу, чем любые солдаты. Живые немцы, которых Люку доводилось видеть до сих пор, по большей части были улыбчивыми парнями с румянцем во всю щеку и гладкими подбородками. Судя по виду, убивать им хотелось не больше, чем ему самому.
— На всех лавках и магазинах, принадлежащих евреям, — продолжал отец, — должен висеть специальный знак — рейх обложил евреев тяжелыми налогами. Ограничено количество мест, где нам разрешено покупать продукты. Никаких прогулок по паркам. Друзьям Гитель уже лучше с ней не играть — вдруг кто увидит. И все же до сих пор мы были в относительной безопасности — пока соблюдали правила и не высовывались.
— А теперь?
— Теперь у евреев официально конфискуется вообще все имущество. Семьи выселяют из домов. Немыслимо, просто немыслимо… Хотя непонятно, чему я так удивляюсь, учитывая слухи из Польши.
Люк нахмурился.
— Выселяют — а что потом?
— Потом всех забирают, Люк.
— Забирают?
— Многие наши единоверцы, в начале войны сражавшиеся в Иностранном легионе, уже депортированы на строительство железных дорог в Сахаре. Нам надо было внимательнее отнестись к прошлогоднему объявлению, что евреям отныне запрещена эмиграция.
— Но папа, куда? Почему ты хочешь уехать?
Якоб Боне повернулся к сыну и грустно улыбнулся.
— Я вас подвел. Девочкам следовало уехать в тридцать девятом году, пока еще была возможность. Но вы были так молоды… у вашей мамы разбилось бы сердце, если бы я отослал ее отсюда. И все равно мне надо было посадить их на пароход в Америку. Потому что теперь вместо Америки им уготовлено место в Дранси.
— В Дранси? Нашей семье? — прорычал Люк.
— Ты в самом деле думаешь, что гестапо успокоилось? Под Парижем уже действуют пять лагерей. В прошлом году за попытку бунта там казнили сорок человек. Фашисты презирают нас, хотят, чтобы нас не стало. И я имею в виду — не просто в Париже или даже Провансе. Они хотят стереть нас с лица земли. — Голос отца дрогнул. — Нас будут преследовать везде, на севере и на юге. Бежать некуда. Поверь, мой мальчик, я пытался. Я, Якоб Боне, даже подкупом не сумел добыть моим дочерям безопасный выезд из Европы. Двери Франции закрыты, а наш так называемый глава правительства радостно выбросил ключ. Лаваль столь ревностно прислуживает тоталитарному нацистскому режиму, что в результате все евреи будут загнаны в лагеря вроде Дранси.
Люк не хотел спрашивать, вопрос сам собой слетел с его губ:
— Но ради чего?
— Ради главного, — пробормотал отец, крепче стискивая черенок трубки. — Я слышал, что планируется серия массовых арестов в Париже — уже на следующей неделе. Опасность грозит всем — не пощадят ни одного еврея. Сперва арестовывали только цыган и иностранцев, но это была лишь дымовая завеса. Франция уже начала отсылать евреев на восток в рабочие лагеря, и ходят слухи, что всех, не способных послужить немецкой военной машине, просто-напросто убьют. — Старик поднял голову и пронзил Люка яростным взором. — Кроме тебя.
— Меня? — От удивления у Люка сорвался голос. — Да, я, как земледелец, конечно, могу считаться ценным работником, но…
Якоб презрительно фыркнул.
— Я не о том…
Однако фразу не закончил, лишь тяжело вздохнул.
В Люке нарастала досада.
— Папа, это все просто слухи. Праздные языки не дремлют. Ну какой смысл в таком всеобщем уничтожении, о котором ты говоришь?
Якоб посмотрел на сына как на полного болвана.