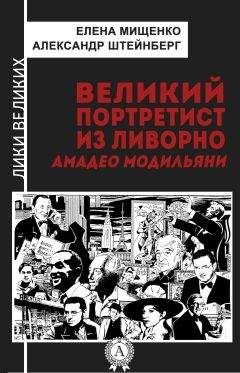«По своим архитектурным качествам Ritz мало отличается от щедрого модернизма отеля „Россия“, — писал я директору в открытке из Лиссабона в Париж, — но лиссабонская „Россия“ попала в хорошие руки хунты, и в нее заезжали все великие люди мира, включая Черномырдина. Я полюбил Лиссабон с первого взгляда — старые трамваи, устье реки Тэж, их государственный флаг, немного похожий на африканский и португальское слово „бригада“, что значит „спасибо“ и объясняет лингвистические корни местного фашизма — несмотря на то, что дежурный по моему завтраку просил простить его за погоду. В конце декабря не больше семнадцати в тени. Я вижу, что сервис в Ritz способен к христианскому покаянию».
«Ты знаешь, я, кажется, понял, — написал мне в ответ директор из Парижа. — Роскошь — это не бассейн и не часы от Cartier. Роскошь — это серая пыль на подоконнике, которую забыла стереть моя уборщица».
Один старый армянский экономист сказал мне, что через пятнадцать лет, если не будет чумы и дефолта, мы будем жить, как в Португалии. Ну, если как в тамошнем Ritz, так ведь это как в сказке! Надо будет нам как-нибудь всей Москвой заглянуть в Ritz — посмотреть на наше будущее с доброй улыбкой. Возможно, мне там не хватало Наполеона, врага Португалии, но печальные песни морячек «Фадо» до сих пор стоят у меня в горле: я обожрался какой-то морской рыбой, которую на мое горе выловили в то утро. Она приехала на раздаточном столе — голубая, как халат операционной сестры. Господин директор, пишите мне письма о роскоши! Я хотел было уехать к вам обратно в Париж, но жестокие летчики Air France сдали меня сельскому милиционеру Ивану.
Виктор Владимирович Ерофеев
Если у мужчины есть будущее, спросите о нем у Павича — в свои семьдесят три года у живого классика сербской литературы розовые губки, красные щечки, горящие глаза и гладкий лобик юной девы. И отсутствие живота, как у нее же. Но стоит ему зажмурится, а он сладко жмурится, как Павич становится похож на холеного кота, съевшего много сметаны, Павич съел очень много сметаны: его книги читают во всем мире. Он одевается, как жмурится: с большим удовольствием, но во всем соблюдает меру; в ресторане выглядит французским экзистенциалистом в вишневом джемпере; на белградской улице в черной кожаной куртке с высоким воротом смахивает на пастора, благословившего не одну тысячу местных читателей своими автографами, а также по электронной почте. Он командует официантом, как маленький принц, с легкой капризностью взмахивая маленькой ручкой:
— Мини, что у вас сегодня самое вкусное?
Мини отбегает от него с лучшими манерами балканского полового, задницей вперед, но на лице у Мини сияет преданность как полового, так и читателя.
Мы сидим в эпицентре культурной жизни Белграда: под нами книжный магазин и интернет-кафе, с одной стороны — философский факультет, с другой — филологический.
— Я забывал русский язык три раза, — говорит Павич, мягко подбирая русские слова. — Я его выучил во время немецкой оккупации. Немцы не разрешали учить ни русского, ни английского. Захотелось выучить и тот, и другой.
Мне с Павичем просто: он явно гордится тем, что преодолел свою ученость, себя самого, занимавшегося десятилетиями и философией, и филологией, но, тем не менее, взявшего за основу своего писательства древнегреческую и византийскую риторику:
— Соседи по культуре научили меня звонкости слова, — в глазах Павича возникает легкая надменность. — Слово должно быть звонким.
— И как вы этого добиваетесь?
Павич умен. Он чувствует в моем вопросе отдаленную возможность ловушки. Надменность он сразу меняет на скромность:
— В литературе есть только одно правило: не мешайте словам.
С этим невозможно не согласиться. Мы чокаемся. Я знаю, что этот принцип трудно осознается, но еще труднее реализуется. На моей встрече с белградскими студентами мое упоминание о Павиче вызвало кислую реакцию. Судя по всему, принцип был внедрен в ранние рассказы, дальше пошла игра ума. Бог весть, я — не знаток Павича. Тем более, он начинает тонко делать мне комплименты, сравнивает с Михаилом Булгаковым и Гомбровичем. Я тихо погружаюсь в свой бифштекс. Я перевожу стрелки. Мы говорим о его огромном успехе в России. Ну, конечно, он счастлив. И какой серб не любит России? Я еще не встречал такого серба.
Не успел я приехать в Белград, как со всех сторон мне стали говорить, что они любят русских. После других европейских стран, где на тебя в ресторане смотрят с таким подозрением, будто ты немедленно украдешь салфетку, прибор и пепельницу, искупаться в бассейне сербской любви — это надо привыкнуть. Сначала думаешь, вполне по-русски: что им от тебя надо? Но видишь: им ничего не надо, они тебя любят и любят, помногу раз в день совершенно бескорыстно, к месту и не к месту вспоминая Достоевского и Красную Армию. Они все еще считают, что мы освободители, спасители, несмотря на грязные занавески, которые до сих пор развиваются на ветру, вывешиваясь из разбитых окон разбомбленного американцами здания Генштаба.
— Хорошо, когда не знаешь, как зовут президента твоей страны, — говорит Павич.
Похоже, его мечта сбывается. Сербы, почти как русские, с удивительным равнодушием относятся к реальности. Они рассказывают, как во время бомбежек сначала ходили в бомбоубежища, а потом обленились и перестали ходить, лежали в кроватях и слушали, как воют сирены. Я все допытывался, откуда эта сербохорватская жестокость, почему стольких перебили во время войны, и они начинали объяснять, окунались в историю, а потом отвлекались на какую-то ерунду и вернуть их на путь размышлений было невозможно. Одна из моих сербских переводчиц, особо пылко любящая русских, да и вообще дама, настроенная весьма эротически, ласково рассказывала мне, как любили сербы красноармейцев, но при этом все быстро-быстро летело в одну кучу: и как сербы их кормили, чем кормили, и как солдатики допытывали ее бабушку, есть ли девочки у нее дома.
Будущая мама моей переводчицы пряталась от освободителей в подвале, и солдаты не нашли ее, да не очень-то и искали, вместо чего подарили бабушке, просто так, из славянской щедрости, облачение православного священника вместе с прилипшими к одежде волосами попа.
— Значит, маму не изнасиловали, — порадовался я.
Она призадумалась.
— Нет. Зато изнасиловали папу.
— Как папу?
— Так.
— Как изнасиловали? — недоверчиво спросил я, не слишком веря в половую неортодоксальность Красной Армии.
— В задницу. Папе было восемнадцать лет.
Нет, все это не мешало любви к русским и не мешает и не будет мешать. Зато к американцам, которые затеяли с ними игру под названием SMART WAR, сербы относятся сдержанно: чужая культура.
— Мы — последние марксисты в мире, — сказала переводчица. — За что и расплачиваемся.
Теперь только в Венгрию им, марксистам, можно ездить без визы, и даже в Загреб нужно ждать визу пятнадцать дней. В Белграде шел дождь. Длинные очереди стояли перед посольствами.
Мы расстались с Павичем очень по-дружески. Несмотря на всю свою румяность, он все-таки не однажды благоразумно назвал себя стариком.
— Напрасно вы это делаете, — сказал я. Он насторожился; скорее, прислушался.
Все писатели страдают мнительностью — профессиональная болезнь.
— Почему?
— Определения убивают, — сказал я скорее французскую, чем славянскую фразу.
Он понимающе кивнул головой. Чем больше я смотрел на него, тем больше понимал, что Сербия относится к Европе, но стоило мне отвернутся от Павича, как все преображалось, и в глазах начинал прыгать балканский фантом Кустурицы. Скажу даже больше: здесь Кустурица отдыхает.
Белград обшарпан. Он обшарпан во всех мыслимых и немыслимых местах. На обшарпанных заборах написаны ругательства, которые поймет каждый русский, даже если он и не знает о существовании сербского языка. Обшарпаны такси с дверями, которые открываются и закрываются совершенно по-русски. Обшарпаны куртки и зонтики.
— Ты где купила эти клетчатые штаны? — с живым интересом спросил мой сопровождающий мою другую переводчицу.
— Мне знакомая прислала из Германии.
Как это близко. У нас так вчера или, может быть, завтра, у них — сегодня.
В гостиницах, представляющих собой руины социалистической «веселенькой» архитектуры, обшарпаны кровати, матрацы, лампы, коридоры, завтраки, полы и вечно курящие вонючие сигареты служащие. Тот самый Белград, который вставал в воображении советской либеральной интеллигенции свободным городом, похож на куклу с оторванной головой. Все началось еще в Шереметьеве, когда я увидел очередь в югославский самолет. Это были мешочники, как у Бабеля. В самолете все сидели на тюках. Колени держали на уровне зубов. Как только самолет приземлился, все вскочили и стали вытаскивать с полок пакеты и сумки, перевязанные веревками. Есть только две страны в мире, где стюардессам не удается победить этот «посадочный» вещевой бунт пассажиров — мы и они, родные души. Если Чечня от нас уйдет, ничего, позовем Сербию к себе в состав. По крайней мере, они нас любят.