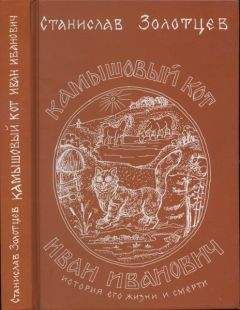И причалил Айво вскоре к мысу, к берегу родному. И тогда проснулась Марью и сказала в удивленье: «Ты зачем меня принес к озеру, в челнок соседский усадил? Ведь свой — хороший. Вот он, твой челнок надежный, доверху забитый рыбой. Новый невод рядом с ним!..»
И жене ответил Айво: «Не хотел тебя будить я, и сюда принес, чтоб снова мы, как в годы молодые, вместе встретили зарю!»
Опубликовано в «Литературной газете» № 45 за 2008 г.
…Да, ничего общего нет у прозаика Леонида Сергеева, например, с прозаиком Владимиром Крупиным (весьма хорошим писателем, кто бы там, в том числе и я, камушки в него ни кидал, даже и за дело). Однако, едва прочитав название новой книги Леонида Сергеева «До встречи на небесах», — тут же вспомнил одно из недавних крупинских творений, «Прощай, Россия, встретимся, в раю!». И тут же я отмёл наметившуюся общность: если мой товарищ по тогдатошнему членству в московском писательском парткоме, а ныне суперправославный мэтр надеется попасть в рай, то остающийся и по сегодня завсегдатаем последнего («подвального») литераторского кабачка Леонид Сергеев о том не только не мечтает, но и напротив, — не раз и на многих страницах утверждает — гореть ему в аду. Беспременно! Причём не только ему, но и всем без исключения его сотоварищам, сотрапезникам, собутыльникам и прочим со… по давним и недавним посиделкам в том же кабачке и других, уже канувших в Лету, злачных уголках и площадках центрального клуба литераторов в Москве, Всем героям (или антигероям? тут тот случай, когда сие не так уж важно) его мемуарных сочинений «Мои друзья стариканы», «Ох уж эти женщины!» и «До встречи на небесах!», составивших основу его новой книги…
Нет, решительно — ничего общего у её автора ни с вышеупомянутым автором некогда нашумевшей антиалкогольной «Живой воды» (хотя бы потому, что Леонид Анатольевич от потребления этой «живой воды» и поныне не отрёкся), ни с иными мэтрами и «сантиметрами» нынешней отечественной прозы. Ничего общего ни с лауреатами различных «триумфов» и «нацбестов», ни с их антиподами, тоже, впрочем, не чурающимися всяких шуб с царёва плеча… И вообще — у Л. Сергеева нет ничего общего. Сплошная конкретика. Весомо, грубо (ну, скажем, жестко) и уж куда как зримо и узнаваемо обрисованные «сцены из жизни» семидесятых-восьмидесятых-девяностых годов. Да, из жизни прежде всего художсетвенно-литературной, можно её даже и «богемной» назвать, — но кто сказал, что богема есть менее созидательно-животворящая часть общества, чем, к примеру, чиновная бюрократия. Или — чем бомжи, опера и бизнесмены, излюбленные персонажи большинства «успешных» и безуспешных творцов новой прозы. И с ними Сергеев, похоже, просто не хочет иметь ничего общего. Его излюбленные — его друзья, «стариканы». Их предельно детализированные портреты, (то словно на холсте, да и с помощью мастихина, то графически-резкие), рельефно, можно сказать — пером документалиста, хотя почти всюду не без иронии и юмора прописанные ситуации судеб немалого ряда литераторов, очень известных (Э. Успенский, Ю. Коваль) или, что называется, (широко известных в узких кругах). Тут и пора сказать: каждое из этих изображений, даже (этюдное) — своего рода штрих к портрету эпохи. Уже без иронии, юмора и без преувеличения сие утверждаю, подкрепляя утверждение строчками, в коих нечто вроде творческого Credo автора содержится:
«Вроде бы, ну что интересного в одной единственной заурядной жизни?! Мелочь, пылинка в огромном мире, а надо же! — своя неповторимая судьба… Даже если просто перечислить вехи одной судьбы, получится хроника определённого отрезка жизни, а если припомнить подробности, то воссоздаётся и атмосфера того времени…»
…Тут и выясняется, что всё же кое-что общее у Л. Сергеева кое с кем в словесности есть. С Толстым. Да, со Львом Николаевичем. Опять-таки не шучу, хотя общность эта, конечно же, не в масштабе дарований и не в творческих манерах. Хоть Леонид в своей книге и говорит, что это поэт-философ Эдуард Балашов благословил его на создание именно такой, «хроникальной» прозы сказав: «Сейчас время сочинительства кончилось, наступило время литературы факта», но ведь создатель «Войны и мира» столетием ранее предрек: наступит время, когда писателям не надо будет ничего придумывать, надобно станет лишь излагать происходящее… Что ж, может, они и впрямь уже наступили, такие времена, однако читаю эту книгу и в который раз убеждаюсь: всё в конечном счёте зависит от того, как изложит писатель то, что хочет поведать, будь то реальное событие, будь то полный фантасмагории вымысел. От угла взгляда. От умения владеть словом. От духовного напряжения. От уровня дарования. От всего, что делает человека художником слова. От «как»… И не на до лукавить пред самими собою, вот в чём ещё меня убеждает эта книга: никаких таких «фактов» самих по себе в основе литературы быть не может. Каждый пишущий, даже самый суровый документалист — всё равно сочинитель. Без доли вымысла, т. е. воображения, ни единый из нас ничего не может творить и вытворять, хотя бы потому, что смотрит на всё своим взором, а не глазами любого другого человека… Вот фрагмент размышлений автора над судьбой и личностью известного детского писателя (здесь и далее фамилий не называю, ограничиваясь инициалами: иных уж нет, а… «тех долечат», пусть лучше читатель, если захочет, сам заглянет в книгу, чтоб узнать, «кто есть ху»), я тоже знал его, и, как думалось, прилично знал, но — читаю о том, кто уже «на небесах», и вижу, и открываю для себя совершенно иную личность:
«С начала „перестройки“ И., чёртов умник, перестроился одним из первых, его компьютерная башка заработала, как землечерпалка: он начал писать детективы, запихнул партбилет в ящик и стал ещё более верующим, чем прежде — если раньше только втайне писал стихи про Христа (будучи секретарем комсомола), то теперь выругается или услышит что-либо неприятное, тут же крестится и бормочет: — Прости, господи! …В И. многое для меня осталось загадкой, он всё же окружал себя непрозрачной оболочкой. Я не знаю, как в нём, чёрте, уживались доброта и злость, пронзительная искренность и явная лживость, ребячество и мудрость; не знаю, чего в нём было больше: естественности или искусственности, таланта или тщеславия, безалаберности или расчёта, но знаю точно — он был личностью, человеком крайностей, необычных (часто бесшабашных) поступков, способным на гнусноватый шаг и на благородное дело» И даже на подвиги…
Если перед нами не полнокровный психологический портрет, то что же это? Но автор не был бы верен себе, не дополнив его. быть может, самым красноречивым штрихом: «Однажды у него на даче мы бродили с его племянницей, моей ученицей… Девчушка рассказывала, какой „дядя С. весёлый и смешной“…
Дело не только в том, что „устами младенца…“: это тот самый мазок, который делает всё изображение не просто живым, а — достоверным. Так и во всех повествованиях Л. Сергеева, они захватывают не тем, что зовётся „правдоподобием“, неким „сходством с оригиналом“, нет, „стариканы“ из-под его пера явлены нам скульптурно-зримыми, во плоти и крови, скорее, в силу „неправдоподобной правды“ изображения» Не исключаю, что иные читатели, далёкие от нынешних и тем паче былых внутрилитературных миров и мирков, усмехнутся недоверчиво и сотрясённо, — дескать, и это творцы стихов и прозы (да ещё и для юных!), и это наши духовные наставники? ужас — ведь греховодники все несусветные, выпивохи отчаянные, а уж но женской части… тут просто приличных слов не найдётся, чтоб обозначить безобразия сих «ходоков»… отнюдь не к вождю. Хотя и но линии «вождизма» многие из них тоже не самым приличным образом отметились: одни рвались к начальственным креслам в «департаменте литературы», другие прилюдно злословили в адрес столоначальников, но ради издания своих «бессмертников» и даже ради мизерного увеличения тиража рвались наперегонки целовать оным не только пятки… И так далее, несть числа их нарушениям не то что святых заповедей, но и элементарных норм морали, в грехах они, как бродячие псы в репьях, — такими изобразил даже самых близких ему друзей-приятелей Л. Сергеев. Так не воскликнет ли читатель его книги с ироническо-горестыой усмешкой: тоже мне, писатели, пастыри духовные! И не добавит ли: так, может, и впрямь правы те «новорусские» швидкие «культурные революционеры», что продолжают справлять уже давно начатые «поминки» но литературе прежних лет, коль её создатели такие негодники?
…Не воскликнет. В том я почти уверен, — если, конечно, хоть сколь-либо развитым чувством юмора обладает сей гипотетический читатель. (Равно как, заметим, и «герои-антигерои» сергеевской прозы — дабы не обижаться на автора; а это, по слухам, кое с кем из них уже происходит). И вовсе не только и не столько потому, что Л. Сергеев и себя, «любимого», не жалеет, да какое там! — драконит свой светлый образ так, что поистине за голову хватаешься: достало же сил человеку, чтобы язвы и пороки своей личности на такой показ выставлять. (Опять же в скобках замечу как давний знакомец Леонида: по моему, он всё же явно «перехватывает» порой в этом самобичевании, — быть может, не желая выглядеть в читательских глазах «приукрашенным» самим собой в сравнении с выведенными им кандидатами в ад)… Но не в том, говорю, дело. А в тех качествах, которые отличают и пронизывают плоть творений Сергеева, становясь в них самим «воздухом»; наименования этих свойств происходят от слова «добро». Доброжелательность, добросердечие, добропорядочность. И просто — доброта, участливое отношение к человеку, о котором говорит писатель в данный миг.