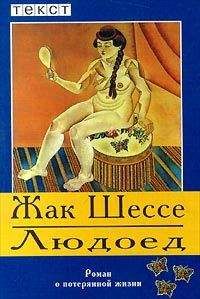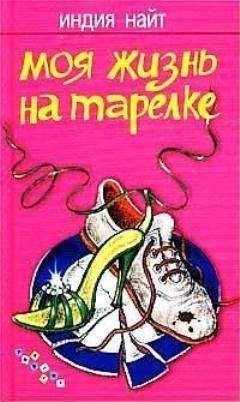Серая. Нет, серенькая — так вернее. Его мать походила на старую серенькую боязливую мышь.
Она не осмеливалась затронуть ту единственную тему, которая ее интересовала, ходила вокруг да около, говорила путано и туманно. Впервые в жизни Жан Кальме без страха обозревал просторную столовую с начищенной медной посудой, игравшей бликами в лучах закатного солнца. Вдоль стены тянулась длинная скамья, большой обеденный стол пустовал, но стулья с соломенными сиденьями и высокими спинками по-прежнему указывали места членов семьи. Дальний конец стола, у стены, был заповедной территорией отца. Доктор всегда сидел в нескольких сантиметрах от напольных часов с маятником, в громоздком, длинном, как гроб, футляре, ведущих свое происхождение из дебрей Юра, где, верно, какой-нибудь двоюродный прадедушка, прихлебывая кирш и напевая псалмы, старательно вытачивал их всю зиму напролет, сидя у окошечка, подернутого белыми узорами инея.
Жан Кальме смотрел на часы. Медный циферблат поблескивал в мягком предвечернем свете. Четкое неспешное тиканье отмеривало мгновения тишины, и Жан Кальме опять восхитился отцом, который годами сидел рядом с этим механизмом, что высился за его спиной, как памятник; отец словно хотел приобщиться к фатальной силе времени и убедить домашних в своей несокрушимой власти над ними. Но теперь отец мертв, а тяжелый маятник по-прежнему упорно отбивает удары в гулком деревянном коробе.
— Ты сегодня еще свободен? — робко спросила мать.
Жан Кальме из жалости спросил ее о докторе. Мать тут же оживилась и с боязливой гордостью — о, как он презирал эту ее гордость забитой рабыни, восхваляющей всесилие своего господина! — принялась рассказывать о последних днях мужа:
— Знаешь, мой бедный Жан, он ведь работал до самого конца. До самого конца! Со времени последнего удара ему было трудно дышать, но он каждое утро принимал всех своих пациентов.
И слушать не хотел, чтобы оставить их, — дневной прием вел, как всегда. Если бы он хоть отказался от визитов, так нет же! Упорно обходил всех подряд, никого не пропускал. И до конца лечил каждого, кто попросит. Настоящий святой, да, да, бедный мой Жан. Ты только представь себе, чего это ему стоило, с таким больным сердцем! Он буквально задыхался, у него случались обмороки…
Жан Кальме с возрастающей тоской вспоминал собственное возбуждение в те утра, когда ему доводилось сопровождать отца при обходе больных: ему было тогда восемь-девять лет, они поднимались по бесконечно длинным лестницам или в лифтах с ветхой обивкой и дребезжащими дверцами, затем дважды, как привык доктор, звонили в дверь и входили в тесные, затхлые квартирки, в спальни, где царил кислый запах очередного небритого, стонущего старика.
Дальше следовала неизменная грубая процедура — откинутые простыни, рубашка, задранная до пояса, доктор, приникший к сердцу поверженного человека, точно жадный каннибал, его пальцы, безжалостно месившие рыхлый живот пациента, его покорную вялую плоть, иссохшую или вздутую, сухую, бледную, холодную или наболевшую, воспаленную, багровую. И всякий раз бесстыдно обнаженные гениталии в косматых зарослях волос, между раскинутыми ляжками. И всякий раз стоны, хриплое дыхание, мутные слезы, опухоли, фурункулы, синяки, и все эти жалкие нагие тела, эти выставленные напоказ члены с черными пучками волос, подобными мазкам сажи на бледной коже, сливались в страшную и скорбную мозаику больной плоти, отданной на милость жестокому повелителю. Сидя или стоя в укромном уголке, Жан Кальме с немым испугом во все глаза наблюдал эти сцены, зачарованный решительными, точными жестами доктора; он и сам чувствовал себя больным перед этой уверенной силой и покорно отдавался под ее власть. Иногда доктору требовалась его помощь, и он спускался во двор, чтобы достать пузырек или чистый шприц из багажника их старого «шевроле», готовил на кухне чай для больного, растворял порошки в теплой воде и подносил стакан к кровати, от которой исходил тошнотворный запах хвори.
Но вот три дня назад сердце самого доктора не выдержало напряжения. Повелитель больных в свой черед начал задыхаться, сбрасывать с себя простыни, нелепо, как его пациенты, отмахиваться, словно отгоняя смерть, которая цепко впилась ему в грудь. Долгие часы напролет тиран хрипел, икал, вращал обезумевшими глазами, молотил кулаками воздух, точно большой младенец, и наконец его огромное красное сердце разорвалось в тесной клетке из ребер и мяса.
Жан Кальме глядел на мать с острым интересом, спрашивая себя, как могла она терпеть этот гнет почти пятьдесят лет. Его приводило в ярость ее тупое смирение. Все могло быть иначе, и его, Жана Кальме, жизнь могла сложиться иначе, если бы мать хоть раз взбунтовалась. Но нет, она прожила эти пятьдесят лет, покорно перенося крики, команды, капризы, ярость, обжорство и всеподавляющие мании доктора. Отец и мать оба были выходцами из сельских небогатых семей. Поженились они очень рано. Отец работал день и ночь, как одержимый, чтобы платить за свое учение; кем он только не был — и подручным каменщика, и землекопом, и вокзальным носильщиком, но в двадцать пять лет он открыл свой собственный кабинет в Лютри и остался здесь навсегда. Виноградари считали его своим: он мог перепить любого из них, им нравилась его мощь и сила. Он не упускал случая потискать какую-нибудь из их дочерей, заигрывал с подавальщицами в кафе. У него было багровое лицо, властный нос с горбинкой, грубый рот, шумное дыхание. От него пахло сигарами, белым вином и потом… А мать была крошечная, хрупкая, чуточку сутулая. Тише воды, ниже травы. Она часто стояла, застыв в испуге, под дверью, не осмеливаясь войти в комнату, где доктор читал свою газету, осыпая проклятиями весь мир. Потом, вытянув шею и более, чем когда-нибудь, походя на испуганную мышку, вслушивалась в тяжелые удаляющиеся шаги на террасе и хлопанье дверцы машины: слава Богу, уехал, можно вздохнуть. Но хозяин вскоре возвращался, снова скандалил, снова переворачивал все вверх дном, и опять она бесшумно семенила из комнаты в комнату, боязливо прислушиваясь, замирая у порога, где ее находили дети, уязвленные материнской робостью, но слишком запуганные сами, чтобы подвигнуть мать на мятеж.
* * *
Представитель похоронного бюро прибыл одновременно с братьями и сестрами Жана Кальме. Все расселись вокруг стола. Служащий — церемонный, одетый в черное — извлек из портфеля длинную брошюру и мягко положил ее на стол.
— Прежде всего, позвольте мне выразить вам сочувствие от имени нашей фирмы, — проникновенно сказал он. — Мы знаем, что семьи, потерявшие близкого человека, нуждаются в наших услугах. И мы стараемся максимально полно удовлетворить ваши желания. Кремация вашего уважаемого отца состоялась вчера, и теперь, я полагаю, вы хотели бы заказать нам урну для праха…
Все молчали. Представитель похоронного бюро также сделал паузу, дабы подчеркнуть значительность своего сообщения, затем продолжил, столь же медоточиво:
— Разумеется, наша фирма располагает не менее чем двадцатью различными моделями, от самых дорогих и изящных до более скромных. Так же, как и в выборе гробов. Мы предлагаем широкую гамму: от дубовых, с шелковой обивкой, до простого елового ящика, смотря по обстоятельствам. Но в данном случае речь не об этом. Давайте посмотрим урны.
Он кашлянул и раскрыл свой каталог так, чтобы все члены семьи могли видеть рисунки и фотографии, игравшие всеми цветами радуги на глянцевой мелованной бумаге. Его стертое лицо над черным костюмом служителя смерти теперь сияло сознанием важности момента. «Ах ты, трупоядное! — подумал Жан Кальме. — Живешь этой мерзкой торговлей, наживаешься на пепле покойников!» Но тут же понял, что в нем говорит зависть к уверенным повадкам бледного невозмутимого человека, похожего на лысого ибиса, к его умению по несколько раз в день, а может, и каждый вечер выводить из затруднения семьи, перед которыми траур поставил массу неразрешимых задач. Служащий перелистал каталог под взглядами присутствующих.
— Как видите, дамы и господа, мы располагаем всеми видами урн. — Он гордо приосанился.
— Вот модель А-1, из белого каррарского мрамора. Эта урна довольно тяжела — двенадцать килограммов сто граммов веса. Сорок семь сантиметров в высоту. Весьма устойчивая модель.
Разумеется, цена немалая, но зато по красоте — лучшее, что можно найти. Обратите внимание на изящество силуэта, на безупречную полировку. Настоящее произведение искусства!
И он почтительно указал на фотографию большой вазы, словно выточенной из цельной глыбы белоснежного, идеально чистого льда.
— Перейдем теперь к модели А-2, — продолжил он, выдержав восхищенную паузу. — Это также необычайно тонкая работа. Сделана из красного крапчатого мрамора с коричневыми прожилками — подлинность материала гарантируется; крышка того же рисунка, резные украшения, круглое основание, вес — одиннадцать килограммов, высота сорок семь сантиметров.