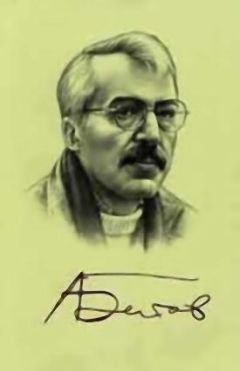1812 год застает его уже в Лицее. «Завидуя тому, кто умирать / Шел мимо нас…» Вести о пожаре в Москве — Москва все еще его родина.
Следующее — уже море. «Прощай, свободная стихия!» (1824). «Шуми, шуми, послушное ветрило / Волнуйся подо мной угрюмый океан».
Потом — горы: «Кавказ подо мною. Один в вышине / Стою над снегами у края
стремнины…» (1829).
Стихия — внизу. Пушкин царит, парит над стихией.
Саранча — «все съела и опять улетела».
Страсти — карты, любови — все это в романтизме поэм. Венец — Алеко с кинжалом. Дальше — история. История как стихия воплощена в «Годунове». «Народ безмолвствует» — не проекция ли сходящего с ума маленького человека?
Кризисы типа «что делать?»: стреляться, бежать за границу, жениться? преобразуются в творческие взрывы 1825, 1830, 1833 годов, сравнимые со стихийными бедствиями.
Стихии природы, страсти, азарта, битвы, гения и судьбы сплетаются воедино — в безумие мира.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийскoм урагане,
И в дуновении Чумы.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса.
И силен, волен был бы я
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса…
Хочется, конечно, чтобы «Не дай мне Бог сойти с ума» так же принадлежало 1833 году, как «Пиковая дама» и «Медный всадник». Как свиваются в нем стихия бури и безумия в один образ! Победа над безумием — не метафора для поэта, а подвиг духа. Природа гармонична лишь под взглядом, внизу. «Дар напрасный, дар случайный, /Жизнь, зачем ты мне дана?» — вопрошает поэт в день рождения, на подступах к «Полтаве», очередному осмыслению безумства исторического:
Лик его ужасен, / Движенья быстры. Он прекрасен.
Петр на поле битвы как будущий Германн за игорным столом.
В безумии вдохновения 1830 года пишутся и «Бессонница», и «Бесы»:
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне.
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.
Что безумие не только в тебе, не только в твоем окружении, а в самой Природе — страшная метафизика!
Равнодушие и насмешка… Никто после Пушкина не найдет этих слов.
…А по телевизору, где-то на дне океана, произошло извержение вулкана, которого никто не наблюдал. Но посреди океана, над вулканом, спроектировалась точка. Точка эта ожила, повернулась, прихватив соседней воды, свилась в вороночку, воронку, приподнялась, разрастаясь, поползла по необъятной поверхности, как карандаш по бумаге, как джинн из бутылки, как перст указующий, вращаясь и превращаясь в столп, вздымаясь, как взывая, к небу. Изначальная серость наливалась, расширяясь, чернотой. И вот уже будто не из океана, а с неба на землю опустился, вонзился в гладь океана гигантский черный клык: высоко в небе, черным воротничком, обозначилось конечное кольцо: эта дьявольская трубка окончательно раскурилась, поднося свой чубук то ли к Японии, то ли к Курилам… В голубом небе легкомысленно серебрился самолет-исследователь, приближаясь к клубящемуся черному конечному краю кольца. «Сейчас нас немного потреплет, — с профессиональным шиком комментировал пилот, — мы влетаем в ГЛАЗ БУРИ. Там уже будет спокойно».
Глаз бури! (По-русски это звучит еще и как «глас бури». Ментальная путаница гласности и прозрачности…) Я был очарован и зачарован: самолетик влетал в серо-черное клубящееся варево, болтало, и вдруг… Тишина и покой; небо еще голубее, чем снаружи, наверно потому, что окружено черным кольцом. Мы пересекали глаз по диаметру. «Влететь — что, — сказал летчик, — вылететь — вот проблема!» Однако он уверенно вылетел. Нас пожевало и выплюнуло в просторные, хотя и более бледные небеса.
Что долгосрочнее, легенда или миф?
Летчик оказался археологом, произведя раскопки в небесах.
Лермонтов влетел, Пушкин — вылетел. Если Лермонтов — легенда, то Пушкин миф.
Светлый тайфун, прогулявшийся по России, наведя хоть какой порядок в ее перманентной разрухе.
Все мои робкие метафоры и образы, полвека сопровождавшие меня при мысли о поэме Пушкина, были перекрыты этой кинохроникой. Зеленое сукно игорного стола, ширь небес или океана, поле битвы, ясность сознания — все сошлось в этом глазе бури. В него можно влететь, но из него надо и вылететь… «Не дай мне Бог сойти с ума…» Даже последняя дуэльная история поэта представилась мне не роком, а выбором.
Не знаю, как исследователи подбираются к одновременности написания «Медного всадника» и «Пиковой дамы». Обобщает их не только дата написания, но и безумие героя. Тема или опыт? Если Петр это тема, то безумие если и не опыт, то грань любви и веры. Не плод воображения.
Пушкин всегда предпочел бы гибель безумию. Он был нормальный человек.
Безумие Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, России и истории, поражения и победы, проигрыша и выигрыша, безверия и веры нормализовано его текстом.
СПб., 5 мая 2002, Пасха
Черновики цитируются по изд.: А. С. Пушкин. Медный всадник. Л., «Наука» («Лит. памятники»), 1978.
Вот прекрасный случай вашим дамам подмыться (фр.).
Сукин сын… почему не пришел ты со мной повидаться? — Скотина… что сделал ты с моей малороссийской рукописью? (фр.)