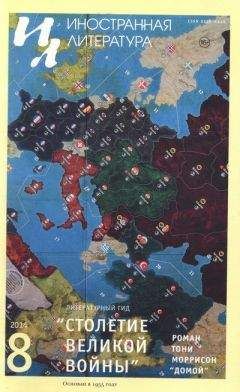Щербаков хмыкал — былые салюты, угасшие огни иллюминации, снятые флаги расцвечивания. Суета сует и всяческая суета.
— Кому это нужно? Зачем копить этот мусор? — сказал он. — Поздравляет товарищ А.Н.Зубарев. А где ныне этот Зубарев? Кто это имя сейчас помнит?
Круглая блестящая голова Челюкина согласно кивала, потом он сказал не споря, как бы соглашаясь.
— Для нас, провинциалов, одна такая бумажечка — ого! Поднимет и вознесет над проблемами быта. Шутка ли — подвал в столичной газете! Репродукция! Билет в президиум — вроде мишура, но какую силищу надо иметь, чтобы отвергнуть. А Митя презрел, отказался.
— От чего ж это он отказался?
— От всего.
— Не знаю, не знаю.
— От самого главного отказался.
— Чего вы темните?
Челюкин понюхал свою стопку.
— А вам зачем это?
— Сами виноваты. Великий, великий, а доказать не можете. Если великий, так чего ж скрывать? Все это труха, — Щербаков махнул рукой, и так решительно, что Челюкин забеспокоился.
— Допустим, я скажу вам, что Малинин скрылся, стал работать под чужим именем, так вы ж не поверите, верно?
— От кого скрылся? Чушь какая-то. Вы серьезно? Что за смысл?
— Никакого смысла, — с живостью подтвердил Челюкин. — Абсурд, я тоже так считал.
— Когда ж это случилось? С чего он?..
— После смерти жены. Надю знали? — Он стал рассказывать, как покойница обожала Малинина, как строила мастерскую.
Все эти подробности в тот момент казались Щербакову лишними, только мешали выяснить главный вопрос — зачем же от своего имени отказываться, от такого имени?
— Вот именно, совершенно точно, — соглашался Челюкин и снова продолжал о приезде к нему Малинина, тоскующего, ушедшего в себя.
— Стал он чинить нашу халупу на садовом участке, поселился там.
Пьянея, Челюкин распрямлялся, кончик носа его засветился красным цветом, взгляд очистился.
— Представляете: никому не известный пожилой работяга в ватнике приносит свои картины, а? Никто понятия не имеет, что это Малинин. Неизвестная подпись. Да и картины-то совсем непохожие.
— Как же он мог соблюсти? Чтобы никому — ничего?
Челюкин легко отмахнулся.
— Нет, вы отвечайте, вы лично могли бы так? — и вперился маленькими глазками, где разгорался огонек. — Вы на себя примерьте и скажите.
— А зачем мне, зачем? — выкрикнул Щербаков.
— Ха, тут много может быть. — Челюкин приставил к груди Щербакова палец. — Чтобы никаких льгот и поблажек. Годится? Преимуществ имени и славы — чтобы не было их. Или, допустим, чтобы отвязаться от своих штампов. Вот вы, например, вы уже сложились. И вам надоело, вы хотите иначе, вам надо вырваться, отвязаться от себя.
— Да вырывайтесь, кто вам мешает, только зачем от себя отказываться?
— Я его тоже про это спрашивал… Я ему говорил: художник должен самим собой оставаться. Развивайся в любую сторону. Расти, как дерево, но чтобы корни были одни. А если я не деревом хочу быть, говорит он, а рощей, тогда что?
— Не понял.
— Сегодня одним, затем другим, если, говорит, во мне много разных людей, которых можно осуществить, тогда как?
Палец сильнее уткнулся в живот. Щербаков отстранился, разговор этот затягивал, что-то неприятное, даже опасное было в нем.
— Вы не вернетесь туда, к столу? — спросил Щербаков.
Челюкин посмотрел на него, понимающе усмехнулся.
— Да-да, вы идите.
От приставленного пальца внизу под ложечкой остался сосущий холодок. Проклятый вопрос этого толстяка словно затягивал в водоворот. В самом деле, мог бы он, Щербаков, автор уже отмеченной дипломной работы и трех спектаклей, мог бы он… начать подписывать вместо Щербакова… Даже передергивало от любой чужой фамилии.
Челюкин дожевал грибок, спросил:
— Вы ничего не заметили в этих картинах?
— С какой стати я буду менять свою подпись, — сказал Щербаков. — Нет уж, извините. Искать себя — это я понимаю. Но — себя. Быть верным себе.
— Вы посмотрите внимательно, — продолжал Челюкин, не слушая его. — Откуда свет и куда падают тени. Нелепица. Он давно искал…
Щербаков нетерпеливо дернул плечом.
— Все это известно, лучше скажите — что ему дало это? Сменил он фамилию — и что?
— Вот вы чем все проверяете. — Челюкин покивал облезлой своей головой. — Результатом. Что с этого можно иметь. Главная нонешняя идея жизни. А ничего. — Он театрально поклонился, развел руками. — Одни потери. Не устраивает?
— Но для чего, для чего? — все более возбуждаясь, крикнул Щербаков.
— Мистификация это. Одурачить хотел. — Челюкин говорил быстро, тихо, поглядывая куда-то вверх. — Если бы он не умер, получилось бы два больших художника. Не успел достигнуть до второго. А то представляете себе, какой бы вышел скандал? Два классика. — Челюкин хихикнул. — Две улицы… На самом деле все не так. Оброс он заученностью. Талант стал техникой. Надоел сам себе. А впрочем, может быть, не тупик, а вершина. Добрался до вершины — дальше куда? Вот он и спрыгнул. — Челюкин зашел к Щербакову сбоку, заглянул в глаза. — А может, тут совсем другое… Перед ним новая идея замаячила: писать то, чего не хотят видеть другие. Каково? То, что на самом деле творится у вас в душе, под вашими румяными щечками. А? Или кругом нас. Вся изнанка жизни, весь хаос, все скрытые чувства. Страшненько? — Он потер ладоши, опять обошел вокруг Щербакова. — Фактически-то я не поверил. Чтобы певец красоты и радости жизни так перестарался? Тут совсем другая причина должна быть.
От всей этой путаницы у Щербакова кружилась голова.
— Какого же черта вы меня морочите! — Он схватил Челюкина за отвороты пиджака, чтобы перестал мелькать перед глазами. — Я же с самого начала добиваюсь: какая причина?
— Вам тайну любопытно раскрыть. Что вам Митя!
— Будете вы говорить?
Щербаков затряс его, голова Челюкина податливо моталась и крохотная усмешечка тоже моталась по бледному его лицу. Сам он оказался легким, мягким.
— Чего говорить-то. Не знаю я ничего, — тихо и обессиленно признался Челюкин. — Упустил.
— Что упустил?
— Хотел он как-то открыться. А я отверг.
— Почему же?
Челюкин поправил очки, сказал покорно, как на допросе:
— В очередь побежал. Сосиски давали.
— При чем тут сосиски?
— Плевать мне было на его философию. Я ему нарочно — на-кася, пойла нашего хлебни после твоих столичных разносолов.
— О чем же он сказать хотел?
Челюкин пожал плечами.
— Так и не узнал. И не спрашивал больше. Изменился он с того времени. Ясный стал. Сосредоточенный. Пока он метался, он мне люб был, я думал — от неприятностей подался он к нам. А когда увидел его другим… Он, значит, дважды хотел меня обойти. Я ведь кто? Нуль. Он приехал к нулю и безо всего тут опять хотел подняться.
Жар прежней злости еще сквозил в его словах, но голос его звучал ровно и печально. Что-то бесстыдное и тягостное было для Щербакова в этих спокойно произносимых признаниях.
— Послушайте, Челюкин, при чем тут вы? — сказал Щербаков. — Зачем вы тут возникаете?
Челюкин поднял очки, маленькие глазки его смотрели колко и сухо.
— Ничего не поделаешь, без меня не получите. Считайте — взбесившийся гарнир. Осталось на тарелке немного холодного пюре… А Митю считали безумным. Оттого, что человек успокоился, просветлел, от этого он у нас кажется безумным. Новые картины его тоже повод давали. Я слухов этих не отвергал. Заслонить его хотел. С безумного какой спрос? Безумство его безобидное. Малюет, допустим, затылки. Я и в самом деле убеждал себя, что он того. Оправдание своей подлости делал.
— Что вы мне плачетесь? — сказал Щербаков. — Вашим признаниям теперь грош цена. Ничего они не стоят.
Опять вышло слишком резко, безжалостно, так, что Челюкин съежился, замолчал. Потом произнес удивленно:
— Отчего мне так тяжело? Значит, это ничего не стоит? — Он смотрел вверх, под потолок, в грязные пятна потеков. — Единственный шанс мне выпал в жизни — и тот упустил. А почему? Мы никак не смиримся, что другой человек может быть совсем не таким, как мы. — Он покачал головой. — Что же, Щербаков, будете делать с этим?.. Великовато для вас.
В мастерской еще не расходились, пили чай с вареньем. Фалеев тоненько пел «Летят утки», подпевали ему вразнобой, хмельно и мякло. Табачный дым колыхался над столом, было шумно, жарко. При появлении Щербакова все стало смолкать. Вид у него был оглушенный и несколько затуманенный, как будто его сильно стукнули по голове. Что с ним, никто не успел спросить, он начал сам, лунатически, каким-то растерянным голосом: «А вы знаете…» Другой бы подождал, пришел в себя; спросили бы — ответил; всегда выгоднее отвечать на вопросы, чем навязываться со своим рассказом. Но в ту пору Щербаков еще был доверчив и не понимал выгоды. Терпения ему не хватало.
Слушали его с любопытством. Про то, как Малинин уехал, провел последние годы на Урале, в городке, где Челюкин заведовал художественной школой. Там Малинин уединился, стал работать, ничем не позволяя себе пользоваться от прошлого, даже внешность изменил. Челюкин устроил его работы на областную выставку. Разразился скандал. Впрочем, Малинина это мало огорчало, он был занят своими поисками. К сожалению, Щербаков не сумел объяснить, в чем состояли эти поиски. И что за городок на Урале — не упомнил, как-то прослушал и то, под каким псевдонимом работал Малинин, все это в разговоре с Челюкиным представлялось не важным, теперь же вызывало законные вопросы. Щербаков отмахивался от них, и рассказ терял убедительность. Кто-то засмеялся — может, он разыгрывает их? Алла уговаривала его выпить крепкого чаю. Он почувствовал, что ему не верят, и сбился. Он не понимал, для чего им нужны адреса, фамилии, все это только мешало, разве это важно, подробности можно выяснить у того же Челюкина. Отправились за Челюкиным, но найти его не могли.