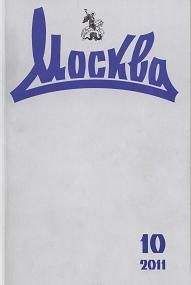Человек лежал на боку, подложив под щеку ладонь, подтянув одну ногу к животу и выпрямив другую, и вся фигура его напоминала позу бегуна, которого изображали когда-то на значке ГТО.
Само собою разумеется, что по всем законам человеческого общежития, Зайцеву следовало немедленно остановиться, растолкать бедолагу, расспросить о жизни, привести домой, обогреть и накормить, выделить из своего скромного гардероба что-нибудь подходящее — ту же рубашку, к примеру, или брюки, а затем, снабдив гостя толковым житейским советом, проводить его, куда тому нужно… Или же, на худой конец, коли не было охоты долго возиться, просто дать сто рублей и уйти с успокоенной совестью. Ничего не сделал Зайцев.
И только уже пройдя мимо, он вдруг остановился, пронзенный внезапной мыслью: «А вдруг и со мной что-нибудь случится, что тогда?»
В то же мгновение он подумал: «А почему же со мной должно что-нибудь случиться?»
«Но с другими же случается! Вот с этим, к примеру…»
«Но я-то тут при чем?»
«При том!» — эта куцая мыслишка прозвучала как-то особенно нагло и глупо, а потому поспешила добавить: — «А вдруг пожар или что-нибудь, что тогда?»
А потом уже началась настоящая толчея: «А почему бы и нет? Ты что, лучше других?»
«Я не утверждаю, что лучше, но не случалось же со мною ничего до сих пор!»
«Ах, не случалось!.. Ну-ну… Вот и сглазил! Поздравляю…»
И вот тут Зайцеву стало страшно. Это, впрочем, был первый и короткий приступ беспричинного страха, который вскоре рассосался.
Придя домой, он напился чаю, посмотрел новости по телевизору и как-то довольно скоро отвлекся и почти окончательно успокоился. Несмотря на то что новости были самые неприятные: убийство журналиста; смерть от шальной пули любопытной старушки, которая выглянула в окошко поглядеть, что это там за стрельба на улице; взрыв в кафе «У Юры» с человеческими жертвами; пожар в Подольском драмтеатре…
Все это было, безусловно, пострашнее спящего бомжа, но бомж-то был живой и реальный, а убийства, взрыв и пожар все-таки понарошку, по телевизору.
Бомж был в этой реальности, где жил Зайцев, а не в телевизионном зазеркалье. Когда Зайцев лег в постель, тело его как-то невольно само собой приняло позу бегуна ГТО, и Зайцев снова вспомнил бомжа. Он встал и пошел к окну, чтобы поплотнее завесить шторы, но на полпути замер, вспомнив убитую случайной пулей старушку. «Но ведь это же там, — подумал он, — в телевизоре…»
«А ну, как из телевизора да наползет в квартиру?»
«Как это наползет?»
«Ну, наблошится… Блохи же от собаки к собаке передаются, перескакивают. Вши наползают…»
«То материальные существа, а в телевизоре духовность одна, не пощупаешь рукой».
«А вдруг…»
Он постоял несколько минут в нерешительности, затем отправился в ванную, вынес оттуда швабру и этой шваброй, став сбоку у безопасной стены, задвинул на окне шторы. После чего лег и попытался заснуть.
Это была трудная ночь. Он весь измаялся, ворочаясь с боку на бок, а когда все-таки уснул под самое утро, то и тут снилось ему, что он никак не может уснуть, что огромные сны, похожие на пузатые дирижабли, в последний миг перед самым его носом защелкивали двери и быстро уплывали прочь. Он бежал, как опаздывающий пассажир, кидался к другим заманчиво распахнутым дверям, но и тут гармошка смыкалась в самый обидный миг. Когда же он все-таки уцепился за какую-то скобу и повис на ней, кондуктор дирижабля, высунувшись и наклонившись над ним, строго сказал: «Избавьте нас от груза ваших мыслей, подите прочь!» — и больно ударил по пальцам шваброй. «Это не мои мысли…» — хотел было крикнуть стремительно падающий в пропасть Зайцев, но не успел, ибо проснулся в холодном поту.
Таким образом, есть все основания признать, что именно с этих пор, с этого рокового дня и этой ночи в бедной его голове началась нескончаемая, изнуряющая и тело, и душу возня мыслей. Особенно неприятно было то, что все они противоречили друг дружке, ни на одной из них нельзя было установиться окончательно. Едва только Зайцев в чем-нибудь убеждался, как тотчас являлась другая мысль и вытесняла предыдущую, а вслед за этим выскакивала и третья, но и третья мысль не приносила желанного покоя.
Так продолжалось около двух месяцев с небольшим.
В это смятенное время Зайцев повадился ходить в библиотеку, но и там творилось то же самое — одна книга противоречила другой, мудрецы мира яростно спорили между собой, почти не слушая и не слыша друг друга. И чем больше читал он умных книг, тем больше запутывался, тем неустойчивее становился весь окружающий его мир и все чаще думалось: да нужны ли вообще умные люди?
На это у Зайцева составилось три абсолютно равноценных ответа: первый — не нужны, второй — нужны, третий — и нужны, и не нужны…
Неизвестно, чем бы кончились его метания, но однажды в четверг раздался звонок по телефону и незнакомый глухой голос пригрозил Зайцеву скорой расправой. Голос, надо отдать ему должное, убедившись в том, что ошибся номером, долго и вежливо извинялся, но это уже не имело для Зайцева никакого значения.
После этого разговора, в ночь с четверга на пятницу, спал он особенно скверно, донимало чувство надвигающейся опасности. И несмотря на то что утро было такое же ясное, как вчера и позавчера, Зайцев именно в это утро понял, что мир переменился и что сам он, Зайцев, окончательно созрел. Нужно было переходить от мыслей и слов — к делу, но сперва следовало твердо определиться, что к чему.
По этой причине был он чрезвычайно возбужден.
«Кто виноват, кто виноват?» — думал Зайцев и ничего не мог придумать.
«Что делать, что делать?» — скакали его мысли, и снова ничего не мог он придумать.
Он встал, торопливо умылся, накинул на себя кое-какую одежонку, присел к столу и тотчас вскочил… Нужно было решаться на что-то определенное, но решимости-то как раз и недоставало.
Самым сложным было, конечно, выбраться из квартиры. Зайцев минут двадцать протоптался у дверей, пережидая опасные шумы. То и дело на лестничной площадке громыхал лифт, брехала охрипшая собака, воюя с собственным эхом, звякала крышка мусоропровода, слышался откуда-то шум спускаемой воды — словом, выйти незаметно не было никакой возможности. Улучив наконец момент, когда все стихло, Зайцев выскользнул наружу и ринулся вниз по лестнице. На секунду замер между этажами, схватившись за облупленные перила, готовый в случае чего мгновенно кинуться обратно, но все было тихо.
Спустившись к почтовым ящикам, он еще некоторое время томился в подъезде, внимательно исследуя двор сквозь щелочку в дверях. Во дворе хмурые грузчики как раз доканчивали разгружать машину. Взявшись вчетвером, они, кряхтя и спотыкаясь, выпучив от напряжения глаза, пятились с последней коробкой в сумрачную глубь магазина.
«В ящике тяжесть, — механически отметил Зайцев. — Трудно простому люду… А с другой стороны, может быть, грузчики слабые…»
Он бы, конечно, еще помешкал, пособирался с мыслями, но грохнул лифт за спиной, снова с верхних этажей залаяла собака, кто-то с кашлем и свирепым клекотом стал выбираться из лифта, и Зайцев скачущим балетным шагом вылетел из подъезда. Здесь, на ослепительном солнечном свету, ощущение громадной перемены в мироздании стало еще более очевидным и ощутимым.
«А вдруг жена мне изменяет! — стукнуло ни с того ни с сего в голове у Зайцева, хотя никакой жены сроду у него не было. — Ставит рога, а мне и невдомек… Бабы очень хитры и по натуре своей скрытны, — рассуждал он, замедляя шаг. — Это давно замечено. Им, в сущности, лишь бы замуж, а там… У них такие помыслы!.. В случае, если это так и я накрою ее с подонком, что делать? — соображал он, прокрадываясь вдоль стены. — Топором?..»
Зайцев представил, как он подкрадывается сзади с топориком в потных ладонях, как вдруг скрипит предательская половица у него под ногой и резко оглядывается на него жена, смотрит страшными, белыми глазами…
— Яду сыпану! — решительно прошептал он и круто завернул за угол магазина.
«А если, не ровен час, откроется? Если вскрытие обнаружит яд? — встревожился он, но тут же себя успокоил: — А тараканов, дескать, морил, а она возьми и выпей по незнанию… Бабы ведь очень неразумны, гражданин судья… Стоп! А вдруг судья — женщина?.. Феминистка…»
И в эту самую минуту, когда он весь был поглощен тяжкими раздумьями, у него произошла очень неприятная стычка с двумя мужиками. Один был толстый и низенький, одетый в бурый армейский бушлат, другой же худой, носатый и длиннорукий, похожий на цыгана.
— Можно огоньку, прикурить? — вдруг задиристо пролаял худой и шагнул наперерез Зайцеву. И шагнул, надо отметить, хищно, широко расставив длинные, цепкие руки в синих наколках. Никакой папиросы, однако, в этих руках не было.
— Виноват! — тонким голосом откликнулся Зайцев, хитрой петлей увернулся от нападавшего и через плечо уже крикнул коротко: — И спешу, и не курю!