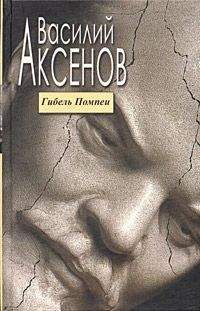– Пусти немедленно, – зло прошептала она. – Мальчишка, дурак, пусти!
На шее у нее вздулись вены.
– Я твой муж! – закричал вдруг Георгий. – Я тебя увезу! Я тебя спрячу! Я не отдам…
Происходило что-то дикое и нелепое. Их окружили культурники, еще какие-то люди. Все кричали:
– Позор! Совсем обнаглели!
Какие-то лица мелькали перед Гоги: ощеренные лица Левана и его дружков, ее лицо без глаз, с огромными стеклами, деловые лица дружинников, возмущенные лица, ухмыляющиеся, тяжелое лицо того человека, ее мужа, его тяжелая рука…
Тут произошла вспышка, похожая на длинный кустистый разряд молнии, и рассеченное время стало плавиться, оползать, зрение Гоги застил красный туман – это его военная древняя кровь хлынула в мозг, он закричал что-то, чего и не знал никогда, и он не помнил потом, что он сделал, а опомнился через секунду уже в руках двух дружинников.
Из-за плеча Черчекова вспыхнул блиц – Гоги сфотографировали.
Потом его вывели за ворота турбазы.
По вечерам на парапете сидит старик горец, шамкает что-то и за пятнадцать копеек наливает желающим маджари из автомобильной канистры.
Знающие люди легонько толкают старика в плечо, подмигивают ему, словно он может в темноте увидеть это подмигивание, суют полтинники, и тогда он лезет в корзину, разворачивает тряпки, вытаскивает оплетенную бутыль и наливает знающему человеку добрый стакан чачи. Итак, в мальчишескую прекрасную жизнь Георгия бурно ворвалась первая женщина, первая сигарета, первый стакан водки.
Он долго плавал в темноте, пока не попал под луч прожектора. Тогда он выбрался на берег, натянул штаны и рубашку и заснул на остывшей уже гальке.
В сатирическом окне городской дружины, которое называлось «Солнечный удар», появилась фотография Гогиной головы, к которой пририсовано было извивающееся в безобразных конвульсиях тело. Текст гласил: «Девушкам строго воспрещается танцевать с местным хулиганом Георгием Абрамашвили, 1947 г. р.».
Леван Торадзе по этому поводу высказался так:
«Разве так делают? С девушками делают совсем по-другому. Гоги – осел».
Авессалом Илларионович Черчеков докладывал об этом случае так:
«Ничего страшного не случилось. Георгию Абрамашвили мы дадим возможность исправиться. Еще раз в связи с этим хочу поднять вопрос о мерах наказания безобразных бесстыдниц, которые к нам приезжают для поправки сил здоровья. У нас молодежь южная, горячая, а они разгуливают по городу, понимаете ли, фактически без ничего, и отсюда вытекают печальные факты недоразумения. Нужно штрафовать».
Георгий сидел на самом солнцепеке над обрывом возле вагончика, в котором жила водолазная команда. Внизу под обрывом, метрах в двадцати от берега с маленького катера опускали в море водолаза. Вот завинтили у него на шее шлем, толстяк какой-то хлопнул ладонью по шлему, и водолаз ушел в глубину.
Георгий сполз по обрыву вниз, поплыл и в двадцати метрах от берега нырнул.
Там, где работал водолаз, было уже чуть-чуть темновато и прохладно. На камнях качались длинные водоросли. Гоги поплавал немного вокруг водолаза, заглянул к нему в стекло, увидел смеющийся глаз молодого парня, подмигнул ему и пошел вверх.
В пронизанной солнцем воде над ним качалось днище катера, он вынырнул рядом и взялся рукой за борт.
– Ты! – сказал ему толстяк с катера. – Ну и силен! Иди к нам работать, кацо.
– Нет, – сказал Георгий. – Я скоро в армию иду. В авиацию.
Поплыл к берегу, посидел немного на берегу, оделся и пошел в парк.
В парке возле горбатого мостика, прихотливо повисшего над пересохшим ручьем, сидела повариха Шура. Перед ней на газетке лежали куски пемзы разной величины.
– Здравствуй, Шура, – сказал Георгий.
– Здравствуй, Жорик, – сказала Шура, виновато как-то улыбаясь.
На голове у Шуры был выцветший платок с надписями «Рим», «Париж», «Лондон» и с видами этих столиц.
Гоги сел рядом с ней и закурил.
– Вот видишь, – кивнула Шура на газету, – пемзы насобирала. Торгую. Может, наберу своему ироду на сто грамм. Вот ведь иго иноземное, а, Жорик?
– Да-а, Шура, – сказал Георгий. Ему было хорошо сидеть рядом с ней и чувствовать к ней жалость, добро.
– Что же ты не питаешься, Жорик? – спросила Шура. – Совсем не ходишь.
– Уволился, – сказал он. – Скоро в армию иду. Скоро, Шура, летчиком я стану.
– А ты все равно приходи, – сказала Шура. – Приходи, Жорик, я тебя питать буду. А сейчас закурить мне дай.
Они посидели немного молча, покуривая и глядя на аллею, которую пересекали редкие отдыхающие под зонтами.
– Вот он идет! – вдруг вырвалось у Шуры восклицанье, звонкое, как у девушки. В конце аллеи, волоча широкие штаны, появился ее муж. – И-идет, древний грек! – язвительно пропела Шура, а в глазах ее светилась любовь.
– Здравствуй, Шура, – смущенно хихикая, сказал грек, – торгуешь?
– Торгую! – закричала Шура. – Ради тебя тут сижу, всему народу на позор.
– Конечно, ради меня, Шура, – заулыбался грек, протягивая уже ладонь и выворачивая большой палец. – Ведь я твой муж.
– Муж! – Шура уперла руки в бока. – Ох уж и муж. Муж объелся груш.
Георгий оставил супругов на мостике, а сам пошел вдоль ручья к ущелью. Идти было приятно – сзади жарило солнце, висевшее над морем, а в лицо дул прохладный ветер из ущелья. Желтеющие уже листья платанов важно колыхались.
На окраине возле станции стояли в ряд четыре палатки военно-строительного отряда. Георгий прошел мимо них, с любопытством заглядывая вглубь каждой. Там шла тихая жизнь – солдат в майке писал письмо, другой лежал на койке с книгой, третий под взглядом Георгия испуганно встрепенулся – оказывается, разглядывал в зеркало свой затылок, четвертый спал. К расположению отряда подъехал грузовик с гравием, трое солдат прыгнули в кузов и принялись сбрасывать лопатами гравий.
– Что стоишь, кацо, подсоби! – крикнул один из них, длинный и голый, в одних только трусах и сапогах.
Георгий взял лопату и прыгнул в кузов.
– Да я шучу, – сказал длинный парень.
– Ничего, – сказал Георгий, и они заработали вчетвером.
– Пошли купаться, – сказал потом длинный Георгию, напялил на себя мешковатую тропическую форму, нахлобучил зеленую панаму с вислыми полями, и они пошли вдвоем к морю.
– Житуха! – сказал парень, жмурясь на море. – Ты местный?
– Ага, местный. Я скоро тоже в армию иду.
– Советую тебе, друг, – просись в строительные отряды.
– Нет, я в авиацию. Мне вчера военком обещал.
– А-а, в авиацию, – сказал солдат, видно задумавшись о чем-то своем. – В авиацию, значит… А я так решил, дорогой кацо. Сам я москвич. Так? На «Красном пролетарии» работал. Там у меня и девчонка осталась – нормировщица. Мне в военно-строительном отряде деньги платят. Верно? Понял? А я их на сберкнижку кладу. Правильно? Вернусь с деньгами. Верно или нет? И тогда мы купим мотоцикл с коляской и будем с ней гонять по живописному Подмосковью. Ну и вечернюю школу закончим. Правильно я говорю?
Возбужденный своими мечтами, солдат все сильнее махал руками и ногами, Георгий еле поспевал за ним.
– Правильно говоришь, солдат.
– А ты, значит, в летные войска хочешь? В аэродромное обслуживание? – заинтересовался солдат судьбой Георгия. – Тоже дело. Специальность можно хорошую приобрести.
Они уже бежали к морю, двое мальчишек с торчащими ушами.
– Я хочу… – сказал Георгий и на миг сощурился под нестерпимым блеском солнца и моря, – я хочу…
Что-то вдруг пронзило его в этот миг. Он словно услышал какой-то далекий, очень далекий, бесконечный зов и бессознательно стиснул кулаки, пытаясь понять, чего же он хочет и что это за звук, услышанный им.
Может быть, это был ветер древней Месхетии, пролетевший по всем грузинским ущельям от неприступного Вардзия сюда, к юноше Абрамашвили? Чего он хочет?
Путь им пересек шлагбаум, и они остановились. Прошел скорый поезд Сухуми – Москва.
– Гоги! Приветик, Го-о-ги! – поезд унес этот крик в туннель.
Они побежали дальше к морю.
– Я хочу стать космонавтом! – яростно закричал Георгий.
– Тоже дело, – одобрил солдат.
1964 г.