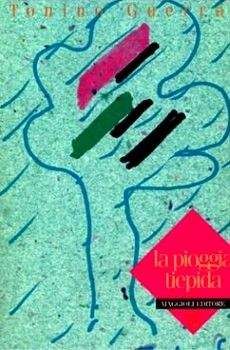Пятница 26 — В огороде у Лизео проклюнулись клейкие листочки. Сам он сидит в плетеном кресле и любуется грядкой, едва тронутой зеленой рябью. Он признается мне, что смотрел кино лишь один раз в жизни. На площади в Пеннабилли. Однако самое сильное впечатление он испытал в 1911-ом году. Маленьким ребенком он гулял по полю и вдруг, откуда не возьмись, в небе возникло «страшное знамение». Оно было продолговатое, овальной формы. В деревне все перетрусили. Кто-то ударил в колокол. Вот он — конец света. Прибежал сын Уникетты. Тот самый, который работает на почте. Объяснил, что это называется «дирижаблем».
Вторник 30 — Вчера вечером заходили Ринальдо и Карла. Они только что вернулись из длительного путешествия по Китаю — с рюкзаком за плечами. В их глазах до сих пор изумление. Особенно у Карлы — она переживает происшествие, случившееся с ней где-то на юге Китая. Они остановились в деревне, жители которой кормятся с туристов. Кому починят обувь, кому залатают платье. Однажды после обеда сопровождающий их гид решил повести Ринальдо и Карлу с группой прибывших туристов в буддийский монастырь, расположенный на вершине горы, опоясывающей долину. Карла не решилась преодолеть бесконечный подъем по лестнице, ведущей к воротам монастыря, и гид предложил ей дожидаться остальных в маленьком гроте на берегу реки. Карла вошла под прохладные своды и оказалась в обществе двух китайцев — мужа и жены. Супруги возвращались домой из соседней деревни. Карле захотелось сфотографировать вид с обрыва. Для панорамной съемки надо было просунуть голову в узкую щель над стеной — по правую сторону от входа в пещеру. Пытаясь втянуть голову обратно, Карла зацепила сережкой за торчащий из расщелины корешок. Жемчужина выпала и скатилась в воду. Река в этом месте была глубиной не более метра. Китаец заметил беду. Сей же час сбросил кеды, закатал брюки, соскочил в реку, достал со дна жемчужину и вручил законной владелице. Ошеломленная Карла поблагодарила китайца за изысканную восточную любезность. Позже гид поведал ей о том, что в прежние времена в гроте обитал удивительный дракон — хранитель большой жемчужины. В ней отражалось сияние серебра и таинственный блеск перламутра. Жители окрестных деревень приходили полюбоваться чудесной жемчужиной. Однажды рыбак похитил драгоценность и увез в открытое море. Но вдали от своего грота и без присмотра дракона жемчужина потеряла блеск. Она потускнела и погасла. Видя это, рыбак принес жемчужину в грот, где к ней сразу вернулись волшебные свойства. С тех пор это место зовется — Грот возвращенной жемчужины. Китайская легенда и случай с серьгой серьезно озадачили Карлу. Она спросила меня, нет ли здесь тайной связи. Вчера вечером мы повторили «иллюминацию» петербургского писателя и садовода второй половины XVIII века Болотова. Наловили светлячков и в саду, и в пойме Мареккьи. Потом принесли угасших жуков-светлячков и разбросали их в траве лужайки на склоне горы. С наступлением сумерек поляна засверкала тысячами огней, светящихся, как бриллианты.
Смеющиеся лепестки роз
Понедельник 6 — Вместе с Сальваторе Джанелла вновь побывал в уникальной крепости XV века, построенной в виде черепахи архитектором Франческо ди Джорджо Мартини. В ее лабиринтах Паскуале Ротонди укрыл от немецких мародеров и разрушительных бомбардировок англо-американских союзников. великое множество картин мастеров итальянского Возрождения. Хитроумный план удался на славу. Ротонди был моим преподавателем в Урбино. Я часто вспоминаю его. Однажды я увидел Ротонди из окна верхнего этажа Университета. Летний вечер. Сверху профессор выглядит совсем маленьким. Шествует строго по прямой линии — отделяющей краснокирпичную мостовую перед Палаццо Дукале от белого квадрата Университетской площади. Кажется, он шагает, опираясь только на пятки. Возможно, ему нравится представлять себя заправским канатоходцем. Неожиданно резко и нескладно, будто сорвавшись с проволоки, он поворачивает к входу в Палаццо Дукале.
Четверг 9 — Я люблю бывать на развалинах заброшенных храмов. Воздух настоян на диких травах. Они растут по своей воле там, где встарь собирались толпы повергнутых в трепет прихожан. Все хотят исповедоваться. Хоть тысячу раз. Нашептывать о своих прегрешениях сквозь ржавые отверстия в решетке исповедальни. Проливные дожди и грозы подточили кровлю. Она обвалилась. Люди покинули святое место. Только трое — два брата и сестра — продолжали ходить в эту церковь. Истово молились, стоя по колено в крапиве. Двоих уже нет в живых. Третий приходит сюда только в непогоду. Шум дождевых струй, стекающих с зонта, напоминает человеческие голоса, и вроде не чувствуешь себя таким одиноким. Стою молча. Будто жду кого-то. Позавчера рядом со мной оказалась ссыльная княгиня — Багратиони. В 22-ом коммунисты превратили ее в беженку. Как и тогда, в руке у нее пухлый саквояж, битком набитый фотокарточками. Воспоминания юности — это единственное, что еще может ее утешить. Среди заросших травой руин мы вместе рассматриваем свидетельства ее придворного прошлого. Долгие путешествия в карете по Европе. В особенности — Мариенбад. Это царь — рядом с отцом, а это сестры. Они часто останавливались в Мариенбаде. На прощание мы расцеловались, как брат и сестра. Она ушла — ее ждал сибирский лагерь.
В день рождения я получил подарок — книгу в черном переплете, найденную в тибетском монастыре. Я не знаю языка, но достаточно раскрыть страницу, дождаться ветра и слова взмоют вверх.
Воскресенье 12 — С годами меня все больше восхищают невежды. Я, конечно, не имею в виду невежество некоторых дипломированных специалистов, которые изо всех сил стараются скрыть пробелы в своем образовании. Я говорю о неведении подлинном, так сказать, изначальном, почвенном. Оно напоминает целину. Такое неведение способно творить чудеса. Оно — род озарения, какое можно встретить разве что у сумасшедших и у детей. Феллини годами водил дружбу с людьми, находившимися на грани умопомешательства. Я был знаком только с двумя из них. Одного звали Фред. В былое время он обучался танцам и даже стал победителем бального конкурса на выносливость. Другой был давно вышедшим в тираж боксером. С раннего утра сидели они у Феллини под дверью. Ждали, когда впустят в дом. Войдя, первым делом опустошали холодильник. В знак признательности играли роль участливых и знающих толк слушателей. Федерико произносил свои монологи в полнейшей тишине. С деланным безразличием выслушивал их жалобы на жизнь. Правда, потом, так или иначе, устраивал все их проблемы. Внимание этих паяцев было необходимо, как воздух. Правда, в этом спектакле их роль практически ничем не отличалась от той, которую в нашей жизни играют кошки и прочие домашние животные. Во многих неистребимо желание иметь рядом того, кто слушает, не перебивая. Так возникает иллюзия физической защищенности. Всякий раз, когда Федерико собирался принять ванну, бывший боксер протягивал ему гирю и командовал: «Маэстро — отжать медленно три раза». На этом утренняя гимнастика завершалась. Фред выслушивал Феллини, гримасничая и иногда сопровождая речи Федерико жестикуляцией. Этим он желал продемонстрировать свое неравнодушие и даже сопереживание монологам маэстро. Федерико вполне удовлетворяла эта скромная аудитория. Главное — было перед кем излить горечь. Временами он в этом нуждался. В час послеполуденной летней дремоты, расположившись на диване в кабинете маэстро, Фред вполголоса живописал несчастья своей семьи и свои невзгоды. Федерико, надо полагать, успокаивался, внимая этой эпопее. Собственные его страдания, вызванные ночной бессонницей, отступали на второй план. В конце концов Фреда он препоручил Мастроянни. Тот на долгие годы взял его в нахлебники. Потом Фред куда-то пропал и умер. Так уходят коты — умирать подальше от дома. Для меня до сих пор загадка — какую пищу могли дать отверженные ангелы-хранители таким художникам, как Федерико и Марчелло? Прошлой ночью возникло сомнение, не был ли какое-то время я сам на амплуа несведущего приживалы? В самом начале своей римской жизни, когда я ютился в окрестностях стадиона Фламинио, Федерико чуть ли не каждый день заезжал за мной. Мы отправлялись в Остию или Фреджене — взглянуть на море. Он рассказывал о будущем фильме из жизни риминийских «вителлони» — маменькиных сынков. Я внимательно слушал, а иногда говорил с ним на нашем диалекте — наполнял римский шум звуками родной речи. Они переносили Феллини в годы его юности, проведенные в Римини. По воскресеньям он брал меня в Чинечитта и доверял рубильник от Павильона № 5. Сам, не говоря ни слова, вышагивал по огромному пустому ангару. Я следовал за ним на некотором расстоянии, помогая ему блуждать в лабиринтах его фантазии. Теперь я часто навещаю глухие селения Вальмареккьи и беседую с одинокими стариками, воспринимающими мир по-крестьянски грубо и жестко. Наверное, это попытка припасть к целебному источнику их блаженного неведения.