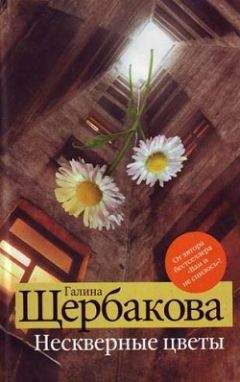Недавно у них в школе был зубной осмотр. Противное, надо сказать, дело и болючее. Она его очень боялась. Мать возьми и скажи: «Я сделаю тебе справку, что у тебя все в порядке». Сказала и пошла к телефону. И дверь за собой прикрыла. И слышно – набирает номер. А она под дверь, не совсем захлопнутую, интересно же.
– Митюш, сделай моей дуре справку, чтоб ее не мучили стоматологи. Да все у нее в порядке, я сама посмотрела…
И она бы ушла, довольная враньем, но дальше пошел текст, что называется, под самый дых: «Да помню я, помню, приду, милый, как обычно. Не бери только кагор, меня от него тошнит, лучше возьми беленькую… Целую, Митюша, я уже вся горю, аж схватывает».
Глупое слово «схватывает», сказала она себе, и голос странный. К кому это она собирается? Ну, было и сплыло, мало ли у девчонок своих забот на очереди, чтобы их раскумекать.
А потом как ни в чем не бывало пришел папа, и мама сняла полотенечко со стола, и папа сказал: «Лапа ты моя». А ей тогда в глаза бросился не до упора застегнутый ремень на папиных штанах.
Но все шло как обычно. Папа где-то задерживался, надушенная мама убегала к подруге, стойкие до ужаса были эти духи «Красная Москва»! Запах дожидался в коридоре маминого возвращения и сливался потом с каким-то другим, принесенным от подруги.
Потом она как-то сразу поняла: они ждут окончания ею школы, чтобы не травмировать ребенка. С понятием были родители. Так и было. Стоило ей окончить школу, как с тайного стащили камуфляжный брезент: они с мамой переехали в двухкомнатку с большой кухней, где обеденный стол, всегда раньше стоявший в разобранном виде под вешалкой, обрел законное место и всегда был покрыт скатертью. У папы квартирка была пожиже, и он всячески подчеркивал «своим девочкам», что исполком лучшее давал ему, но он-то честнее исполкома, он хороший человек. К нему переехала некая тетка, была ли это та, что с забора, она не знала.
А потом папа неожиданно умер. Здоровяк с виду, ломом не убьешь, он был насквозь больной всеми сосудами сразу. Все было пышно. Мама плакала взахлеб, а новая жена папы просто кидалась сначала на гроб, потом на могилу, выла как зверь. Рядом тихо сморкалась девочка, явно смущенная всем этим. Кто-то громко сказал: «Не свезло бабе, так не свезло».
Был ли у мамы кто-то, она не знала. Нет, видимо, кто-то все-таки приходил, когда она была в школе, или в кино, или где еще. «Красная Москва» оставляла неизгладимый след посещений. Еще живой, папа сказал, что после восемнадцати помогать, как раньше, уже не будет. «Посчитайте, девочки, метраж мой и свой и давайте закроем тему». «Пространство суть деньги», – сыронизировала мама.
Мама взяла вторую ставку. Для дочери, которая готовилась поступать на исторический факультет в пединститут, сил было не жалко. Выбор «фака» был не сердечный, а умственный: в техническом математика, тут у нее нули, в медицинском трупы, а у историка никаких тетрадей, никаких лабораторных занятий.
Жизни хотелось нетрудной, такой, какая виделась у родителей.
А потом мама купила новый палас. «Жить надо красиво», – сказала она, расстилая его по полу. Еще мама любила говорить: «Живем порядочно». Слово это дочери не нравилось, был в нем какой-то неведомый ей изъян, вроде бы от хорошего слова «порядок», но одновременно – и жизнь по ряду, одно за другим, скука. А так хотелось всплеска, вспышки, да разве сразу скажешь, что за желание в тебе бормочет. Но «порядочно» – это уж точно тоскливо, как запах «Красной Москвы».
А потом случилась беда. У мамы нашли рак, и несколько поздновато. Тогда, по старой памяти отца, ей предложили работу в исполкоме, мол, учиться можно и на заочном, и на вечернем. Как гора с плеч свалилась от этого истфака.
Странное у нее было чувство – противности к себе, что балда, и одновременно радости, что, как говорила бабушка, «склалось». Она вообще часто ее вспоминала. Вот, например, помнила, как соседка, пригнувшись за забором, срывала в мисочку их малину. Когда возникала бабушка, соседка всегда успевала встать и развернуться в другую сторону и кричала бабушке: «Кать, а Кать, глянь, воронье уселось на проводах, и ничего им, сволочам, не бывает, а человек только коснись – и ему уже кранты».
Тогда, маленькая, она стыдилась видеть чужое воровство, но и сочувствовала соседке: у той по пояс росла во дворе кукуруза, и ничегошеньки больше.
– Она ленивая как сатана, – говорила бабушка, – запустила землю, а что с кукурузы возьмешь?
– А что, сатана ленивый? – спрашивала она.
– А кто это точно знает, – отвечала бабушка, – но, полагаю, не работящий.
Почему-то думалось о себе: а какая я?
Мама уже сильно болела, когда тетка пригласила ее в гости в Москву. Та тетка, которая присылала им неожиданные деньги и писала на бланке для слов: «Это вам на баловство».
Маме тогда как раз полегчало, но бросать ее совсем было все равно стыдно, и она сопротивлялась поездке изо всех сил. Но мама встала и начала ходить по комнате.
– Видишь, – говорила она, – мне надо научиться справляться самой, поверь, твоя поездка будет мне на пользу.
Уезжала с болью и страхом за маму. Всем соседкам низко кланялась, чтоб приглядывали.
Поездка в Москву – это совсем особая история, ее надо писать другими чернилами и на другой бумаге. Она долго после воспоминаний о той поездке выпивала по полбутылочки валосердина сразу. После этого она тупела и уже снова ничего не помнила. Это был самый лучший результат. Остается в памяти комната тетки, узкая, как пенал, абсолютно наглый фикус, на котором ей было велено протирать каждый лист – листьев было девятнадцать, и последний уже лежал на потолке. У тетки была теория: в фикусе ее жизнь, а бережение тяжелой кадки с цветком – это ее охранная грамота. Абсолютно нормальная тетка, но на фикусе заклинилась. Перед самым отъездом, последний раз протирая тринадцатую ладонь фикуса, она сказала ему: «А ты мне не отомстишь, если я не полезу наверх, не скажешь тете? Меня сегодня тошнит от печени трески, такая гадость».
Потом она скажет себе: все, что случилось, устроил фикус.
Фикус-фокус-фыкус-факус. Так она, перетирая, называла его листья. Тетка приносила ей билеты в Большой, в Театр Советской Армии, в Третьяковку и в Музей революции. Честно, многовато для одной недели. У нее пухла от впечатлений голова и временами ее тошнило. Особенно – стыдно признаться – от Большого театра. Из Музея революции можно было вышмыгнуть, а из театра как? Дневной спектакль, дети в антракте орали, музыка была тяжелая, черная, она ежилась под ней, как под тяжелым кожухом. Стыдилась этого – ведь это был «Борис Годунов». Скажи кому – срам, да и только. В конце концов она уезжала из Москвы с чувством невероятного облегчения и как бы даже спасения.
В поезде, в тамбуре, к ней стал вязаться парень, а вечером он ее обнял и поцеловал так, что она испытала неведомое чувство и забыла про первое впечатление от великой музыки навсегда. А парня помнила всю ночь. Она сравнивала его с пристающими на танцах мальчишками. Мальчишки отсыхали тут же, а от поцелуя парня сердце сначала прыгало в горле, потом убегало под мышку, потом в солнечное сплетение и загоралось в губах, как пожар. И она вытирала лицо полотенцем, терла губы, но они были совершенно независимы от нее и пылали, как им хотелось.
Потом он просил у нее прощения, сказав, что она «сразила его наповал». Странно, что только сейчас она вспомнила эти слова, которые, казалось, забыла навсегда.
На длинной узловой станции поезд стоял сорок минут. Они вместе вышли в поле, трава и цветы там были по пояс и щекотали ее под юбкой. Самое интересное, что это она повела его в цветы. «Я их сто лет не видела». Оказывается, маленькой она ходила то ли с бабушкой, то ли с дедушкой за город, и там росли такие вот высокие бесшабашные цветы.
– Знаешь, как их зовут? Нескверные цветы. Они же не из города, не из сквера, они лимита, можно сказать, растут как хотят. Не по ряду, не по кругу, вольно.
Она так радостно рассказывала об этом, что стоило им встретиться глазами, в которых отражались цветы, как он обхватил ее всю, и уже через секунду, лежа в траве, они делали то, что, в общем, еще как бы не положено девочке, не закончившей первый курс. Потом они поднялись, но падали снова, едва не опоздав на поезд. И пришлось бежать, и ей в босоножек попал уголек от паровоза, и он встал на колени и вытряхнул его. И поцеловал ей ногу. Она думала, что умрет от этого.
Мама умерла через три дня после ее приезда. Она сказала ей, что видела сон и великую справедливость. Так и сказала: «Справедливость, детка, – это Бог. Он сделал так, что я успела увидеть тебя счастливой».
Покойная мама каким-то удивительным образом была похожа на Крупскую с бюста, стоявшего во дворе их школы. И она не могла сообразить, какое счастье имела в виду мама, говоря о справедливости и Боге. Неужели она о чем-то догадалась? Это бередило душу и разрывало сердце. Потому что это явно принадлежало к тому, что полагалось занести в графу «Я должна это забыть навсегда». Горячие губы, спину на нескверных цветах, уголек в босоножке, как его звали, она уже не помнила. Как он выглядел – тоже. Помнились только ни на что не похожие ощущения. И еще разговор о письмах и встрече. Какие письма? Какие встречи? Это тоже надо забыть.