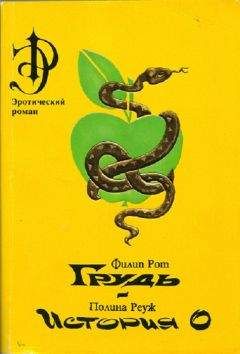— Может показаться, — сказал я доктору Клингеру, — что теперь-то меня уже насквозь «проанализировали», за что вам спасибо.
Он усмехается:
— У вас оказалась более сильная психика, чем вам казалось.
— Я бы предпочел иной способ узнать об этом. И кроме того, это не так. Я больше не могу жить в таком состоянии.
— Но вы должны, вы живете.
— Живу, но не могу. Я никогда не был «сильным». Решительным — да. Твердо стоял на ногах. Пунктуален. Честен. Обходителен. Хорошие оценки по всем предметам. Это все началось с той поры, когда я прилежно делал домашние задания и получал призы на школьных конкурсах. Доктор Клингер, мне здесь невыносимо. Я хочу куда-нибудь, я хочу свихнуться, соскочить с катушек, хочу выкинуть какое-нибудь безумное коленце, но я не могу. Я рыдаю, я ору, я уже на пределе… Я уж, кажется, на грани… но я прихожу в себя. Я шучу, горько и неуклюже. Я слушаю радио. Я слушаю пластинки. Я думаю о наших беседах. Я сдерживаю свою ярость, сдерживаю, сдерживаю — и жду, когда вы появитесь снова. Но ведь это и есть безумие — приходить в себя. Твердо стоять на ногах, когда у меня нет ног — это же безумие! Меня постигла ужасная катастрофа, а я слушаю шестичасовые новости! Я слушаю прогноз погоды!
— Нет, нет, — говорит доктор Клингер. — Сила характера, воля к жизни.
Хотя я время от времени и заявляю, что хотел бы сойти с ума, это явно невозможно. Это выше моих возможностей, это мне недоступно. Нужно было случиться ЭТОМУ, чтобы мне стало ясно: я — бастион здоровой психики.
Словом, я точно знаю, хотя и делаю вид, будто все как раз наоборот, что они меня изучают, наблюдают за мной — так они наблюдали бы сквозь прозрачное дно катера за интимной жизнью дельфинов или китов.
Я думаю об этих морских млекопитающих из-за невероятного сходства с ними по форме и размерам и еще потому, что именно дельфины, как говорят, наделены способностью рассуждать, а, возможно, даже интеллектом. Я своего рода дельфин, убеждаю я себя то ли из каприза, то ли имея какую-то вескую причину. Выброшенный на берег кит. И она во чреве кита. «Как рыба без воды» — не могу удержаться, чтобы не пошутить. …В разгар этого необычайного чуда самое что ни на есть обыденное вдруг напоминает мне о пределах, в которых протекает жизнь большинства людей. Нет, правда, — глупость, банальность, бессодержательность жизни, на которые попросту можешь не обратить внимания, будучи в таком кошмарном состоянии; но если оставить в стороне мой ужасный физический облик, остается все же некая интеллектуальная реактивность, которую я, кажется, развил в себе как раз вследствие уникальности и безмерности моего несчастья. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? КАК ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ? И ПОЧЕМУ? ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО — ПОЧЕМУ ИМЕННО ДЭВИД АЛАН КЕПЕШ? Знаете, ведь это очень показательно для уровня квалификации доктора Клингера — то, что он мне талдычит о «силе характера» или «воле к жизни», или, как я называю их во время наших с ним бесед, «с. х.» и «в. к ж.». Эти банальности являются терапевтическими эквивалентами моих дурацких шуток. С их помощью, мои уважаемые современники, мы должны сохранять нашу связь с обыденным и привычным: лучше иметь дело с банальным, нежели с апокалиптическим — ибо после того, что сказано и сделано, пусть я даже и бастион здоровой психики, мы с доктором Клингером прекрасно понимаем, что есть границы и у моих возможностей.
Насколько мне известно, моими единственными посетителями, помимо ученых, врачей и больничного персонала, были Клэр, мой отец и Артур Шонбрунн, бывший член моей кафедры, а ныне — ректор колледжа. Мужество, с которым держался мой отец, меня поразило. Не знаю, чем это можно объяснить — я могу только сказать, что просто-напросто никогда не знал его как человека. Да и никто его не знал. Работяга, всегда себе на уме, немного тиран — это я знал, наблюдая за ним многие годы. С нами, членами его семьи, он был вспыльчивым, требовательным, откровенным, надежным, нежным. Он глубоко нас любил. Но это самообладание перед лицом трагедии, эта собранность перед лицом ужасного — кто бы мог ожидать такого поведения от человека, который всю жизнь был владельцем второразрядного отельчика в Саут-Фоллсбурге, штат Нью-Йорк. Он начал свою карьеру поваром, готовя простейшие салаты, а закончил хозяином отеля; теперь он на пенсии и «убивает время», отвечая на телефонные звонки в конторе у своего брата в процветающей фирме общественного питания в Бейсайде. Он навещает меня раз в неделю и, сидя в придвинутом поближе к моему соску кресле, рассказывает о людях, которые снимали номера в его гостинице, когда я был еще совсем ребенком. Помнишь Абрамса, мельника?
Помнишь Коэна, педикюрщика? Помнишь Розенхайма, который умел показывать карточные фокусы и ездил на кадиллаке? Да, да, да, помню, кажется. Ну вот, этот умирает, тот переехал в Калифорнию, а у того сын женился на египтянке. «Как тебе это нравится? — говорит он, — я и не думал, что они смогут такое позволить». Ох, папа, хочу я сказать, несть конца чудесам…
Но я бы никогда не сыграл с ним такую глупую шутку: его актерский талант слишком великолепен. Но разве это актерство? Я думаю: «Вот мой отец, который встречал гостей в ночном казино. Помню, как торжественно он обычно представлял официантов, поющих «Эли, эли». Эйб Кепеш из «Хангериен ройаль» в Саут-Фоллсбурге. Что мне с этим делать? Он что — бог или простак, или просто глупец? Или у него нет иного выбора, кроме как беседовать со мной, как бывало раньше? Он что, не понимает? Не понимает, что произошо?
Потом он уходит — не целуя меня. Это что-то новенькое в наших с отцом отношениях. Вот когда я понимаю, чего это все ему стоило; вот когда я понимаю, что с его стороны это было игрой, представлением и что мой отец — выдающийся, благороднейший человек.
А моя восторженная матушка? К счастью для нее, она давно умерла. Мой теперешний вид убил бы ее. Или нет? Насколько благородна была она, бывшая горничная и новариха? Она, смирявшаяся с вечно пьяными пекарями, с негодяями-поварами, с шоферами автобусов, которые писались в постель, могла ли она смириться и с этим тоже? «Звери», называла она их, «свиньи из хлева», но неизменно возвращалась к своим делам в гостинице, невзирая на обуревавший ее со Дня Памяти до йом-кипура angst[3] от той вопиюще неуклюжей помощи, которую мы с отцом ей оказывали. Не от матери ли я унаследовал свою решительность? Не ей ли я обязан тем, что упрямо выживаю? Вот вам еще одна банальность: я способен перенести свое превращение в молочную железу из-за того, что провел детство в стенах захудалого отеля в предгорьях Кэтскилла[4].
Клэр, чья невозмутимость неизменно оказывала на меня бодрящее воздействие и всегда была мощным противоядием и от моей бывшей жены, и, как я теперь думаю, от моей матери с ее вспышками гнева, на которые я насмотрелся в детстве, так вот, Клэр не обладала столь же сильной способностью, как мой отец, подавлять свое горе. Что меня поразило, так это не ее слезы, но тяжесть ее головы, склоненной к середине меня, когда во время ее первого визита не прошло и пяти минут, как она не выдержала и разрыдалась. Как она могла даже прикоснуться ко мне? Как она могла уронить в меня свое лицо? Я считал, что никогда уже и никто, кроме врачей и сиделок, не захочет дотронуться до меня. И я подумал: «Если бы Клэр превратилась в исполинский пенис…» Но я не видел смысла развивать дальше эту фантазию. Что случилось со мной, то случилось именно со мной, и ни с кем другим, потому что это не могло случиться ни с кем другим, и даже если я не мог понять, почему так случилось, это — случилось, и для случившегося должны были быть весьма серьезные причины, о коих, возможно, я так и не узнаю. По мнению доктора Клингера, которое он изложил по своему обыкновению безапелляционным тоном, вероятно, я был просто морально не готов поставить себя на место Клэр.
Достаточно откровенно. Даже мне это показалось бессмысленным, так что я перестал рисовать в своем воображении Клэр Овингтон в виде мужского члена пяти футов девяти дюймов в длину… И все же, я не мог полностью избавиться от чувства стыда при мысли, что я неспособен на такую же преданность, которую продемонстрировала эта невозмутимая и непретенциозная женщина — ни на ее преданность, ни на ее человеческое сочувствие.
Нет, даже находясь в столь отчаянном положении, я не оставлял своей привычки оценивать себя, сравнивая с другими, и выговаривать себе за недостаток сочувствия, эмоциональности, моральных принципов. Согласен, подобное нескончаемое и угрюмое самоедство довольно часто представляет собой оборотную сторону обыкновенного самодовольства и глубоко сидящего в подсознании чувства собственного превосходства, так что я не стану отрицать, что в своей прежней жизни я очень редко имел о себе столь низкое мнение, которое надо было уравновешивать скромным признанием своих добродетелей и достоинств. Я хочу сказать, что несмотря на произошедшую со мной метаморфозу, моя манера самовосприятия и самооценки никоим образом не изменилась, и если это и есть способ сохранить цельность своей личности и душевное здоровье, а вместе с тем и в. к ж., то в сексуальной сфере это вызвало у меня существенное внутреннее неспокойствие и едва не привело меня к нервному срыву и гибели.