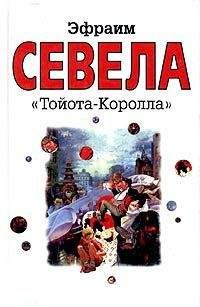– То господин Фархуддинов насыпет мне золота в пупок…
Был в этом пароходе поразительный контраст с берегами, слоисто-зелеными, безлюдными, уже нежно гудящими комарами. Пароход тоже был разбит по слоям: мазутная тяжесть трюма, злачность камбуза и тяжкий пар душевых, выше – потрепанный шик зеркал, лакированных панелей, дрожащих до треска, и надо всем этим отрешенный простор палуб, летуче переходящий в небо.
На верхней стояли, блестя стеклами, автомобили, по второй прогуливались в спортивных костюмах норильчане, снимали друг друга на видеокамеры. Оживились, когда из подъехавшей лодки стали грузить на камбуз огромных осетров.
– Они какие-то пластмассовые… – Маша смотрела на них, не отрываясь.
Когда один из них забился, скобля, щелкая костяшками гребня по палубе, чуть прихватила Женю за рукав. Рты их судорожно выдвигались пластиковыми трубками. Одноглазый мужик с чахлой бородой пересчитал деньги и завел мотор, рубленую пятьдесят пятую “Ямаху”. Вздыбив лодку, он унесся, отпал куда-то в сторону, в сияющую даль, и затерялся там, сбавив ход.
Осетры продолжали биться. Подошел матрос и оглушил самого большого кувалдой.
– Они их съедят? – спросила Маша, сглотнув.
– Они их продадут. Пойдем.
Евгений устроился во втором классе. Были места и в первом, но Маша хотела выкупить каюту целиком, чтобы ей никто не мешал, а проводница говорила, что так не положено. Маша моментально оледенела, неузнаваемо напружинилась. Глаза были широко открыты и горели. Губы шевелились отрывисто, упруго и твердо подбирались после каждого слова: “Хорошо. Вот так бы сразу. Спасибо. Обожаю с такими собачиться! Я вредная?”
Поздно утром вышла выспавшаяся, расслабленная, подкрашенная едва заметно, с запасом на будущее. В ресторане подсел золотистый бугаина в шортах, с круглой брито-лысой головой. На пузе маленький серебряный фотоаппарат.
– Салат из помидоров, два штуки. Солянка. Эскалоп. С картофаном.
“Ярича” ноль семь. Бутылку “Хан-Куль”. Пока все. Водку сразу. – И уже Маше: – Девушка, а у вас говорок западный.
– Я из Москвы.
– Все москвичи – конченые свинни.
Говорил сочным, резким голосом, будто режа воздух на металлические пластинки. Диск был острым, и искры от него летели точные и злые.
– Почему?
– А у них руль не оттуда растет! Га-га-га!
– Как это?
– А так. Приезжает тут один: “У меня с Москвы бумага”. Я говорю, да засунь ее себе… в одно место.
– Вы грубый.
– Я нормальный. Ты подойди по-человеччи, я тебе и без бумаги все сделаю.
– И как с нами быть?
– С вами? – Мужик прищурился, открывая бутылку и подмигивая Жене.
– С нами, – прищурилась и Маша, прикрывая рюмку ладонью.
– Да отрубить по Камень, и муха не гуди! Га-га-га!
– По камень – это как?
– А так. По Урал.
– А я вот давно хотела спросить. Вот здесь едешь и едешь, и никто не живет. Почему?
– А это дырья. Знаешь для чего?
– Для чего?
– Для вентиляции, га-га-га! – Мужик снова захохотал. – Ты подумай: если их людьми набить? Люди разные. И есть, я тебе скажу, такие свинни. Представляешь, сколько свинства поместится! Га-га-га!
Знаете, зачем России дырья?
– Зачем?
– Чтобы не порваться. Это тост. И не боись, Маня, не будем мы вас отрубать! Давай, друга! Давайте, ребята!
Вскоре “друга” уже сиял не золотом, а красной медью и резал слова не диском, а яркой и трескучей сваркой:
– В гости жду вас, Маня, с Жекой, обязательно. Я в Столбах живу.
Жеча знает. Обожди. Адрес. Телефон. Ручка есть? Щас нарисую. Вот так, во-во… Вот так, во-во… Вот тут вот дорога пошла. Вот тут вот так вот… Женька знает…
Голос у него совсем изменился, горел, как электрод, озаряя и осыпая искрами.
– Главное, ребята, дугу держать… Вот тут вот у нас свороток… Вот тут вот сопки… А тут река, которую…
На этих словах электрод чуть подлип и голос дрогнул, но выдержал дугу и доварил до конца:
– Которую мы все любим… А вот тут мой дом…
Они уже давно стояли на палубе, а слова стыли, каменели в памяти, и
Женя хорошо знал такие встречи, которые хоть и начинаются с искр, но шов оставляют на всю жизнь – крепкий, грубый и без шлака.
Река, которую они любили, постепенно сужалась. Ночь тоже сгустилась до почти южной густоты, и Машу поджало, придвинуло к Жене еще на трудные сутки. Светясь вышкой, огнями, приближался Енисейск. Главные огни жизни тоже светились отчетливо и сжато: предельный неуют ночи, скупое оживление усталых людей. Дорога. Женщина. Дом.
Стояли на самом носу. У соседней пары за спинами ветровки дрожали тугими шарами. Нос летел над водой легко и мягко, и слышались только ее шелест и звук ветра. Маша касалась его плечом, и, когда налег ветер, прижалась с вековой простотой и также легко отстранилась, когда порыв ослаб.
Лицо ее ровно светилось в темноте. Вечность прошла с той минуты в аэропорту, когда она посмотрела в телефон, как в зеркальце, и, сверившись с отражением, поцеловала свой образ, втянув щеки и собрав губы выпуклой щепотью. Когда они расслаблено приоткрылись, в их просвете стояло великое разряжение. В душе, как в мембране, что-то дрогнуло, и засквозил-завязался ток, гулкая тяга, которая, раз наполнив, больше не утихала. Все плотское повяло, подсушилось от этого ветра и отдельно от него уже ничего не значило.
Она что-то сказала совсем близко около его лица, и из ее желанного рта чуть нанесло знакомой дорожной горчинкой. Вся жизнь перевязалась, озарилась одним вздохом как живой водой. Мурашки побежали по спине, голову ознобило, огладило наждачной пятерней.
Грянул гудок, и Маша вздрогнула, испуганно открыв на него очи, словно он отвечал теперь за все гудки и разлуки.
Пароход медленно приближался к дебаркадеру. Горели огни. Вырвалась из тьмы лодка, взрыв смугло-желтую волну, гулко пронеслась в узком пространстве. Бросили трап. Впереди неловко пробиралась женщина с сумками. Навстречу выступил крепкий человек в плаще. Они молча приложились друг к другу лицами, он взял сумки и понес к машине.
С берега в гостиницу ехали на такси. Стояли на перекрестке среди одноэтажных домишек. После дождя асфальт равнодушно блестел в синеве фонаря. Круг светофора был крупный и в светящуюся клетку, яркую, мертвую и тоже будто усталую.
В холле гостиницы Маша заполняла карточку. В паспорте ее лицо было моложе и родней какой-то казенной простотой. Он поднял в номер ее вещи.
– Ну все? Я с ног валюсь. До завтра.
– До завтра.
Женя сел к знакомому таксисту.
– Чо за фруктоза? Завалил?
– Рули. Валило…
В гараже белая “Креста” 93-го года казалась еще больше, красивей, женственней. Он поставил заряжаться аккумулятор и пошел спать.
С утра ощущение недосыпа, песочка в глазах только обостряли собранность. Утро было раннее, очень летнее, с лучисто-сыпучим светом и режущей прохладой в тенях.
Медленно выехав на улицу и подправив кресло, он чуть качнул рулем и почувствовал, как крепко, в три зеркала, встала машина в дорогу. Он олил из омывателей стекло и вдохнул запах, лимонный и такой остро спиртовой, что этим дорожным хмелем чуть повело память и озарило почему-то дорогу Владивосток – Красноярск. Как стоит поздней осенью на переезде, и с судорожной старательностью работают дворники, и лимонный раствор мешается с мокрым снегом. И все проползает платформа с какими-то изоляторами, а слева от него спит сменщик по кличке Четыре Вэ Дэ с бритой башкой и волыной в кармане. А в зеркале приближаются две пары узких фар, но это оказываются иркутяне на двух
“Скайликах”, и он вытирает пот, а когда переезжает рельсы, твердо работает подвеска и прыгает, клацая зубами, сонная голова напарника.
А сейчас машина идет совсем ровно, и стоит лето, и, хотя на этом месте вот-вот будет сидеть Маша, надо переложить гигантские рельсы в самом истоке жизни, чтобы ее по-настоящему приблизить.
У гостиницы стояла серебряная “Тойота-Веросса”. Крылья были выпукло отбиты стрелками, овальные фары загибались вдоль капота наверх, стеклянными чулками обтягивали борта передка. Вся машина была, как одутая ветром дождевая капля…
Он поднялся в номер, когда она уже выходила. В просвете открытой двери чернел чемодан с выдвижной ручкой и виднелась полузастеленная постель. Маша была чуть невыспавшаяся, глаза казались резче, а влага на веках острей, первозданней. От нее чуть пахло духами и земляничной жвачкой. Другой, химически тревожный, дорожный запах шел от чемодана на колесиках.
– Мы попьем кофе?
– Конечно. И раз уж мы здесь, я тебе город покажу.
– Мы успеем? У тебя еще какие дела в Красноярске? Кроме меня?
– Кроме тебя? – повторил он, словно дожидаясь, пока эти слова доберут смысла. – Да никаких особенно, на Правый съездить. Берег, я имею в виду…
– Плохой кофе.
– Да? Я как-то не задумывался… Мы сейчас монастырь посмотрим.
Машина тихо тронулась, сквозь коричневые стекла дома гляделись сдержанней и глаже.