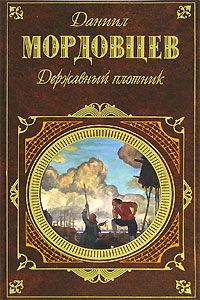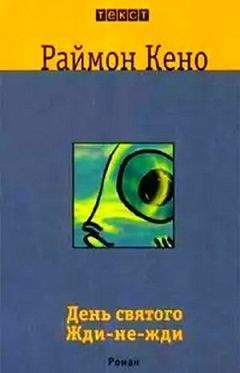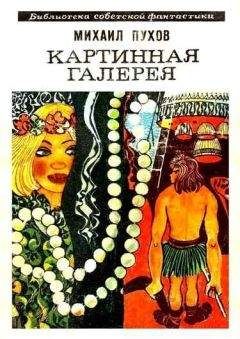Дворов шестьдесят было когда-то в Тупиках. Не повезло деревне. Сначала укрупняли, в Поповку переселили, потом разрешили вернуться, а потом вообще передали в другой район… он вспомнил, как переселялись, бросали, ломали хороший, только что перекрытый двор… как выла мать и ему было страшно. Отец, нестарый еще тогда, не выдержал, не стал в Поповке отстраиваться, выпивать начал и года не протянул. И остался их наспех собранный дом без сеней и даже без забора вокруг.
Старик хорошо помнил, как оно было когда-то в его деревне, теперь, правда, оно и не угадывалось совсем, и надо было долго объяснять, что растащили, что в землю ушло, а что заросло без людской заботы… но его никто и не спрашивал. Давным-давно не спрашивал. Как, мол, оно раньше-то было? Старик иногда удивлялся. Ему казалось очень интересно, что раньше было вот так, а теперь по-другому. Казалось, из этого что-то можно понять важное. Но люди — они тоже были разными — те, что жили здесь давно, и сегодняшние. Старику казалось даже, что те прежние люди бесследно исчезли с этой земли, а эти нынешние родились как-то сами по себе, как будто вышли откуда-то из телевизора, и ни к тем прежним, ни к этой земле отношения уже не имеют.
Сразу за изгородью начинался выгон, заросший бурьяном, ольховником да березняком. Можно было и дорогой ходить, но старик упрямо отстаивал свою дорожку, которую топтал всю жизнь. Бурьян, он хоть и бурьян, а против человека с косой и топором что он, тот бурьян?
За выгоном начинался лес. Он не пошел по тропе, ведущей к озеру, а повернул правее, к верхним полям, там оттаивало раньше. Там весной присаживались первые гусиные стаи, и он пацаном ползал к ним по грязи с батиной одностволкой, а потом и взрослым мужиком ползал. Он тащился крепким снежным настом, мелко переставляя лыжи, опирался на палку и думал о грачах. Что они едят? Червяков — это понятно, за плугом, за бороной собирают… А еще чего? Чего вот, например, сейчас-то? Они всегда прилетали, когда поля начинали чернеть из-под снега, вдоль дорог собирали, когда по тем дорогам ездили на лошадях. Кое-чем кормились. А теперь-то как?
Нельзя было сказать, что он как-то уж особенно любил этих грачей, даже скорее и не любил за галдеж и изгаженный пометом двор, но потом уже, когда Катя померла и старик остался один, он ждал их каждую весну. Грачи означали, что еще одна серая долгая зима скоро кончится. Они были живыми, галдящими, прыгающими с ветки на ветку, вестниками весны и тепла.
Многое-многое в жизни стало неважным, а это почему-то наоборот. Он очень их ждал.
Заранее начинал поглядывать на небо, прикидывал, когда они в этом году, и вот, чаще всего утром, вдруг слышал знакомый разговорчик сквозь стены и так этому радовался, что засовывал босые ноги в валенки и прямо в трусах и фуфайке выкатывал на крыльцо. Тут обнаруживал он свой тополь украшенным черными орущими засранцами. Вскоре и таять начинало, как следует. Грачи были верной приметой.
Старик был небольшой, высохший, лыжи широкие, и наст держал неплохо. Дунай, проваливаясь то одной, то другой лапой, уходил вперед, останавливался и, повернувшись к старику, привычно, понуря голову, ждал.
Пройдя угол леса, остановился. Поле заросло так, что уже и не сунуться. Он знал это, маслята летом собирал здесь в мелколесье, да почему-то забыл. Всегда, всю его жизнь там были поля, которые он сам же и пахал, эти-то поля он и помнил, а про маслята забыл. Не протаяло еще ничего. Бело кругом, только лес скучно чернел.
Он стоял на опушке, глядя на крышу своей избы у речки, на другие повалившиеся и еще стоящие, давно опустевшие жилища людей, вспоминал, чьи они были. Катю свою вспомнил… Катя померла… все-таки, когда она жива была, полегче было. Он ее носил. Обезножела, враз обезножела в огороде, упала, как скошенная трава, и смотрит на него, а ногами не может шевельнуть. Восемь лет так и жили. Коляску придумал из велосипедных колес, и она все делала из этой коляски — и в огороде, и у плиты, пол даже мыла… Ну и носил, конечно. В огород, в баню носил свою Катю на руках. Нетяжелая была. Она и вообще-то никогда не была толстая, только когда беременная. Хоть и старый уже, а поднимал, справлялся. Даже смеялись они вместе на это дело, когда он брал ее на руки, как молодую. Катя так и говорила тихо: молодую-то, мол, не носил. Или он принесет ее в баню… хоть и старик уже, а бывало, и стеснялся… Всю жизнь они стеснялись друг друга — отчего это?
Он потоптался еще, разглядывая деревню издали, и пошел домой. Было 23 февраля. Старику всегда в этот день непонятно на душе бывало. И тяжеловато и всяко-разно, а иногда и хорошо. Сынок Нюшкин родился 23 февраля. Они пьянствовали с дружком Колькой. По-соседски начали, а потом Колька еще полдеревни напоил — у них с Нюшкой детей больше десяти лет не было, и Колька тогда чуть не неделю пил.
Старик стоял с охапкой дров среди избы, снег с нее стаивал и бряцал льдышками об пол. Ему тридцать с чем-то было, Нюше поменьше, у него уже двое пацанов бегали, и Катя Юлькой была беременная. С большим уже пузом ходила…
Свалил дрова к печке. Там было много наношено, он не стал складывать, свалил прямо на дрова, поленья покатились, загремели по чугунку, по грязной собачьей кастрюле… Сел на табуретку, глядя в грязный, давно не мытый пол. Васька подошел и тоже сел, хотел почесаться, да так и застыл, задумался с поднятой задней лапой.
Конец мая был. Выходной какой-то, он не мог вспомнить, что за выходной или, может, просто воскресенье, но только дело было с утра и ни он, ни Нюша не были на работе. А Колька? Где же был его сосед и собутыльник, он не знал. Он точно помнил, как завернул серп в мешок и пошел в лес за травой для кроликов и даже полмешка набил уже. А она просто так пришла. Он тогда ее испугался, не то, что она неожиданно вышла босыми ногами под серп, но вообще, что она появилась… Он давно уже чувствовал, что она должна что-то такое сделать. Почему-то чувствовал. Он тогда испугался, вздрогнул, на пятку присел, серп перехватил за лезвие и уставился на нее хмуро. А может, и не хмуро… но точно, что не очень ласково.
Она, подобрав подол, так что белые ее коленки видны стали, опустилась перед ним на траву. Он эти коленки вот уж полвека помнит. Прямо перед ним, знала, что делает, сначала на коленки… так… разведенные слегка… а потом на пятки села. Они смотрели друг на друга, и ему неудобно было отвернуться или встать и отойти. Нюша достала из-за пазухи стакан, четвертинку и кусок хлеба, налила и ясно так сказала:
— Выпей-ка, Гриша!
Сказала и прямо в глаза ему глядела. Мать так ему говорила: “Молока выпей, Гриша…” Так вот и она тогда, нельзя было не выпить, и Гришка, положив серп и вытерев руки о рубашку, принял стакан от нее и неторопливо выпил. На лице его все еще было удивление, и, может быть, ему даже о чем-то и хотелось спросить, но он не спрашивал. Носом пошмыгал, послушал, как водка бежит и согревает до самого низу, и даже вроде порадовался, что с утра стаканчик опрокинул, — все-таки, кажется, праздник какой-то был. Полегче стало, подумал, отдавая стакан, что она, может, только это и хотела, за серпом потянулся. Но она отбросила серп и стакан под куст…
— Николай Николаич! Законный боец Красной армии! — орал пьяный сосед, поднимая кулек с Колькой над головой — как раз двадцать третьего февраля он и родился.
Не хотел тогда уйти от нее. Хотел бы — ушел. Но не ушел и вот уж пятьдесят лет вспоминает. Как о чем-то важном, что случилось в его жизни. Это когда думает о Нюше, а когда о Кольке, то вроде и неловко, но он про Кольку редко думает. Да и Нюша — крепкая была баба. Никогда потом ни одним словом, никак ничего. Ни трезвая, ни выпившая. Не подмигнула даже ни разу — мол, как сынок? И еще старик помнил, как он все-таки ждал, что она еще позовет… Даже подстраивался, чтоб вдвоем остались… но никогда! И он хоть и подстраивался, а хорошо думал о ней за это.
Он встал и пошел в сени. Постоял, то ли привыкая к темноте, то ли думая о чем-то, потом на крыльцо вышел, посмотрел в сторону Нюшкиного двора. На бурьян, где она жила когда-то. Вернулся, вытянул бутылку из-за кадушки с крупами, отер пыль и тут услышал, как на дереве опять зашумели. Выглянул. Птицы подлетали, ему показалось — парочками, махали крыльями, садились, но не кричали. Голодные, думал старик, как же не голодные? Где же им теперь? Он вернулся к кадке с крупой, перебрал несколько пакетов — немного было, и положил все на место. Крышкой прикрыл от мышей.
Поставил бутылку на стол, поглядел за окно — грачи ходили по двору, клевали из Дунаевой миски. Никогда такого не было. На заборе сидели. Васька из будки прицеливался на ближайших, но, как будто вспоминая о чем-то, недовольно прятался, одни глаза и седая бахрома ушей торчали из-за порожка будки. Дунай лежал в стороне, головой на лапах и даже слегка отвернувшись, будто не хотел мешать. Или даже извинялся, что мало оставил. Грачи тщательно обследовали мятую алюминиевую лоханку, звонко стучали по ней светлыми клювами.