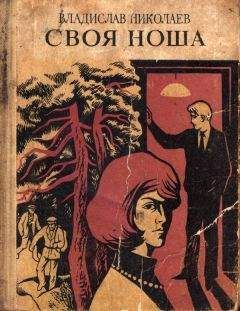Вообще мое представление о Татьяне с течением времени сильно переменилось. После одного из своих выездов в поле она вернулась домой «маршалом» — открыла железорудное месторождение. «Полем» геологи называют всякую местность — тайгу, горы, топи, куда выезжают на летние работы. Татьянино месторождение находилось в Саянах. На основе своего открытия она подготовила диссертацию. Через неделю — защита. Без пяти минут — кандидат наук. Это уже не шутки!
Иной раз я спрашивал себя: что это? Везенье? Слепая удача? Или естественный результат старания, трудолюбия, напряжения воли? И обычно склонялся к последнему выводу, ибо чего-чего, а характера, настойчивости, даже некоторой хватки Татьяне не занимать. Как мы очутились в этом раю? — вспомнил я про новое жилье и не утерпел, поднялся на локте, снова оглядел его, желая удостовериться, что все это не сон, не выдумка, а настоящая явь: широкое, в две створки окно, дверь в другую комнату, еще с двумя окнами, через которые в это утро тоже ломилось солнце.
Два месяца назад в Москву на повышение уезжал замредактора. Освобождалась квартира. Татьяна пристала: иди проси, доколь жить в одноглазом скворечнике? Я наотрез отказался, зная, что на квартиру претендует Куб и еще пять или шесть редакционных работников, скитающихся по частным углам. Тогда Татьяна взялась за дело сама. Прихорошилась, приоделась и отправилась к редактору. Как там было — не знаю, не рассказывала. Могу только представить: села подальше от стола, чтобы Иван Гордеевич имел возможность всю ее видеть, закинула ногу на ногу, достала из сумочки сигарету — вон, мол, какая, а живет черт знает где… Во всяком случае вскоре мы перебрались сюда, а наш скворечник занял Куб.
Я положил голову на подушку, повернулся к Татьяне, засмотрелся на ее лицо, и в эту минуту мне уже ничего не надо было от жизни, кроме того, что имел, — ни собственных книг, ни известности, ни славы. Я весь с краями был полон своей женой, ее делами.
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Татьяна, почувствовав мой взгляд, пошевелила ресницами, открыла глаза, и они были такие же чистые, ясные, как и вся сама, — точно и не спала, а лишь притворялась спящей.
— Ты что? — спросила она.
— Пора, — сказал я. — Не забыла про школу?
— А это обязательно?
— Конечно. Ребята предупреждены. Будут ждать. Потом и школа твоя, и не куда-нибудь они едут, а опять же на твое месторождение.
Как только мы заговорили, в углу, где стояла деревянная кроватка, послышалось шевеление, и еще через минуту над спинкой кроватки показалась круглая пушистая головка Маринки. Маринка терла кулачками глаза и, не видя нас, уже улыбалась — такая приветливая девочка. Я подошел к ней.
— Ну, Маринка, пойдем умываться.
— Дя, — согласилась она.
Я подхватил ее под горячую тугую попку, унес в ванную, где для порядка осведомился:
— Может, сначала на горшке посидим?
— Дя, — снова согласилась она.
Вытащив из-под ванны эмалированный горшок, усадил на него Маринку, а сам открыл кран и подставил под холодную струю шею. За спиной раздался грохот. Оглянулся. Горшок валялся у стены, а Маринка, раскинув руки и приподняв голову, голеньким животом лежала во всю длину на кафельном полу. Я схватил ее на руки.
— Бо-бо, — сказала Маринка.
— Бедная девочка…
— Я не бедная. Козлик бедный.
— Вот как! Почему же он бедный?
— Остались ложки да ножки.
— Ну и правильно. А у нас все целехонько — и ножки, и ручки, и папа, и мама. И мы не бедные.
— Неть, — подтвердила Маринка.
Чудесный разговор получился у нас с дочерью.
Древний тополь, разнеся в щепки палисадник, упал поперек улицы.
Листва на нем была еще живая и мокрая. Сахарно блестели на изломах сучья. Дерево переломилось у самого корня, где оно выгнило в середке до черной вонючей пустоты.
Из соседних домов сходились к нему дворники — в белых передниках, брезентовых рукавицах, с пилами и топорами. Двое пришедших пораньше уже разделывали толстый растрескавшийся комель. Мягко, как по пробке, ходила пила. На омытый асфальт сыпались коричневые гнилые опилки. Пахло горьковатой корой.
Мы обошли дерево с вершины. На одной руке я держал Маринку, в другой — плащ с отвисшими карманами, в которых лежало все мое командировочное снаряжение: записная книжка, мыльница, зубная щетка, паста, полотенце… Татьяна, в белом платье, голорукая, помахивала легонькой сумочкой.
Все в это утро было чистым, свежим, ярким — голубое небо над головой, трава на газонах, самое солнце. А вода в лужах, отстоявшаяся за ночь, казалась прямо-таки родниковой — припадай к ней и пей. Над мокрыми крышами и асфальтом струился золотистый пар.
На перекрестке нас догнал Куб. Непричесанный, лохматый, с веселыми за стеклами очков глазами. Он забежал вперед и ухватил Татьяну за руку. Истово подергал, потряс. Потом то же самое проделал с моей рукой, и все его большеносое губастое лицо радовалось, будто мы не виделись сотню лет — такая уж у него была азартная манера здороваться.
Татьяна вытащила из сумочки большую женскую расческу и протянула Кубу:
— Причешись.
А я повернулся к Маринке и спросил:
— Ну-ка, скажи, Марина, кого ты любишь?
Марина лукаво сощурилась и сказала:
— Мутовкина.
— Почему Мутовкина?
— Он класивый.
Шутка была не новой, однако мы рассмеялись, а Маринка, словно понимая, что сказала что-то необыкновенно остроумное, — громче всех. Этой шутке ее никто не учил. Месяц назад я вот так же спросил, кого она любит, надеясь услышать в ответ «папу» или «маму», а она вместо нас назвала Мутовкина и объяснила: «Класивый»… Ну что ж, устами младенца глаголет истина.
Мы занесли Маринку в детский сад, а сами направились в школу.
На широком школьном дворе, посыпанном черным шлаком, с тополями и акациями вдоль глухого забора, с горой поломанных парт, с бочками краски — в школе начался летний ремонт, — уже стоял голубой автобус, и у бетонного крыльца, густо забрызганного известкой, толпились отъезжающие ребята и их родители.
Непросохший шлак дымился, в тополях гомонили воробьи, в стеклах автобуса полыхало солнце. В кабине стекло было опущено, и в окне на скрещенных волосатых руках лежала голова шофера с помятым после воскресенья лицом.
Когда мы подошли к крыльцу, ребята улыбнулись нам с Кубом, как старым знакомым, но тут же забыли про нас и с любопытством уставились на Татьяну, догадавшись, что она и есть первооткрывательница месторождения, на освоение которого они сегодня улетали.
Я пересчитал ребят, и у меня упало сердце: всего пять человек. Неужели больше никто не подойдет?
Директор школы Парфенова, провожавшая на стройку и свою дочь и от волнения потерявшая обычную директорскую замкнутость, заметила растерянность на моем лице, развела руками и неуверенно сказала:
— Подождем. Время терпит.
Еще зимой меня вызвал к себе Иван Гордеевич и поделился заботой в областном масштабе. Школы области в этом году выпускали на волю восемь тысяч человек, а вузы и техникумы могли принять лишь половину. И в моем отделе надо было подумать, как и где ребятам устроиться.
Мы с Кубом поездили по предприятиям. На многих могли принять молодое пополнение хоть сейчас: там некому было сколачивать тару, в другом месте требовались подсобники, в третьем — ученики к мастерам. Выслушивая эти заявки, я мрачнел. Неужто так уныло и скучно предстоит ребятам начинать взрослую жизнь? Ну а что придумаешь другое? Поживее, поинтереснее? И вдруг вспомнил про Татьянино месторождение. Там уже работала комплексная экспедиция. Минимальные запасы руды были определены в восемьсот миллионов тонн, и с дальнейшей разведкой они еще росли. К месторождению пробивалась дорога. В скором времени собирались строить рудник. Вот настоящее дело!
С помощью Татьяны я залучил в редакцию появившегося на несколько дней в городе начальника экспедиции Приходько. Это был высокий — под два метра, светловолосый и юный на лицо парень. О, работы у него завались! — уверенно заявил молодой начальник. Можно везти целую школу — всем хватит. С первых же слов я почувствовал расположение к этому похожему на младенца гиганту, а когда он еще согласился сходить со мной в ближайшую от редакции школу и выступить перед десятиклассниками, то уже совсем души в нем не чаял. Золотой человек! Приходько не блистал красноречием, но слушали его затаив дыхание. Даже для моего уха колдовской музыкой звучали слова: тайга, горы, палатки, разведка… Когда Приходько умолк, в классе поднялся невообразимый шум. И я понял — затея удалась. И в самом деле удалась: тут же всем классом решили после окончания школы ехать на стройку. Сбившись над партой в кучу малу, ребята составили письмо в газету, в котором рассказали о своем решении и призывали других выпускников области последовать их примеру. Под письмом стояло семнадцать подписей.