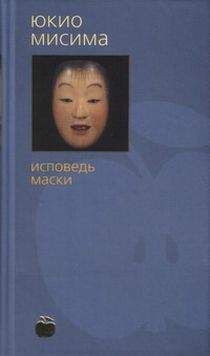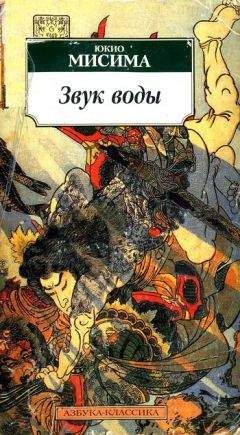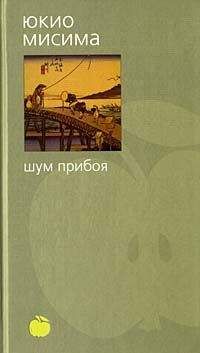Но, увы, гибель его оказалась не окончательной. Для того чтобы спасти сестру и жениться на прекрасной волшебной принцессе, он должен был семь раз вынести испытание смертью. Но во рту у принца имелся заветный алмаз, благодаря которому он всякий раз воскресал и в конце концов добился своего счастья. На моей любимой картинке изображалась его первая смерть – испытание пастью дракона. Потом принца схватит гигантский паук, который пронзит его тело отравленным жалом и «пожрет без остатка». Еще герою сказки предстояло утонуть, сгореть в огне, быть искусанным осами и змеями, свалиться в яму, «утыканную бесчисленными и острыми саблями», пасть под «дождем из огромных камней».
Гибель в пасти дракона описывалась весьма красочно и подробно: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг ожил, тело его срослось, и он выскочил из драконьей пасти! И не было на нем не единой царапины. А дракон бухнулся оземь и издох».
Я прочел этот абзац раз сто, не меньше. Но предложение «И не было на нем ни единой царапины» казалось мне серьезной ошибкой, которую непременно следовало исправить. Автор допустил тут огромный промах, он меня предал – так я думал.
И в конце концов я сделал замечательное открытие: оказалось, что можно закрыть пальцами совсем небольшой кусочек текста, и сказка станет идеальной: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг… бухнулся оземь и издох».
Взрослому подобная цензура показалась бы абсурдом. Да и сам юный своенравный цензор отлично видел противоречие между тем, что чудовище изжевало принца целиком, и тем, что он потом «бухнулся оземь и издох», но не желал отказываться ни от первого, ни от второго.
Я часто с наслаждением воображал, как погибаю в бою или падаю, сраженный рукой убийцы. И в то же время я панически боялся смерти. Бывало, доведу горничную до слез своими капризами, а на следующее утро смотрю – она как ни в чем не бывало подает мне с улыбкой завтрак. Я видел в этой улыбке скрытую угрозу, дьявольскую гримасу уверенности в победе надо мной. И я убеждал себя, что горничная из мести замыслила меня отравить. Волны ужаса раздували мне грудь. Я не сомневался, что в пище отрава note 7, и ни за что на свете не прикоснулся бы к ней. А после завтрака, вставая из-за стола, смотрел в лицо горничной с торжеством: что, мол, съела? Я воображал, что она глядит на остывший, невыпитый бульон вне себя от горя – ведь ее коварный замысел разгадан.
Бабушка запрещала мне играть с соседскими мальчишками, во-первых, опасаясь за мое слабое здоровье, а во-вторых, не желая, чтобы я учился у них всяким гадостям. Поэтому участницами моих игр были няньки, служанки, да еще три жившие неподалеку девочки, специально отобранные бабушкой. Малейший шум – хлопанье дверьми, звук игрушечной трубы, громкая возня – немедленно вызывали у хозяйки дома невралгию в правой коленке, так что играть приходилось только в тихие девчоночьи игры. Посему я с большей охотой проводил время в одиночестве, читая, складывая кубики, рисуя или предаваясь фантазиям. Позднее, когда родились сестра и брат (которых, как меня, не отдали на попечение бабушки), отец позаботился о том, чтобы они росли свободно и привольно. Но я уже не завидовал их шумным забавам.
Другое дело, когда я попадал в гости к своим кузинам. Там от меня требовалось, чтобы я вел себя «как положено мальчику». Помню один случай. Это было весной того года, когда я начал ходить в школу, мне шел седьмой год. Я гостил в доме своей двоюродной сестренки – назовем ее Сугико. Моя тетка так расхваливала меня: какой я стал большой и взрослый, – что польщенная бабушка позволила мне попробовать блюдо, которое считалось для меня запретным. Страшась приступов моей самоинтоксикации, бабушка почему-то решила, что мне нельзя есть «рыбу с голубой чешуей». Поэтому мне всегда подавали камбалу, карпа либо палтуса, у которых мясо белого цвета. Картофель я получал только в виде жиденького пюре. Мне запрещалось есть соевые сладости – только тоненькие бисквиты, вафельки и галеты. На десерт я получал протертое яблоко и несколько долек мандарина. Вот почему первую в своей жизни «рыбу с голубой чешуей» (это был желтохвост) я ел с огромным удовольствием. Ее вкус казался мне чудесным, ибо в нем я ощущал сладость «взрослости»; но вместе с тем было и смутно тревожное, тяжелое чувство – я боялся становиться взрослым; мне и сейчас делается не по себе, когда я ем эту рыбу.
Сугико была крепким, жизнерадостным ребенком. Когда ночью меня укладывали спать к ней в комнату, моя кузина, едва коснувшись головой подушки, сразу же засыпала, словно отключалась. Я же, вечно мучавшийся бессонницей, лежал и смотрел на нее со смесью легкой зависти и восхищения.
В гостях у Сугико мне предоставляли куда больше свободы, чем дома. Здесь не было воображаемых соперников, только и думающих, как отобрать меня у бабушки (то есть моих родителей), поэтому она со спокойной душой позволяла мне резвиться на воле. Дома же я постоянно был обязан находиться в поле ее зрения.
Но на время обретаемая свобода не приносила мне радости. Я чувствовал себя, как человек, поднявшийся с постели после тяжелой болезни: все его движения скованны и неуверенны, он делает их словно по обязанности. Куда с большим удовольствием выздоравливающий улегся бы обратно в кровать. И потом, в доме Сугико считалось само собой разумеющимся, что я буду вести себя как самый нормальный мальчишка. И я начинал играть роль «нормального мальчишки», к которой мое сердце вовсе не лежало. Примерно тогда я понял одну вещь: когда я являю окружающим свою подлинную суть, они почитают это лицедейством, когда же я разыгрываю перед ними спектакль, люди считают, что я веду себя естественно.
Именно роль «нормального мальчишки» заставила меня предложить Сугико и еще одной нашей кузине: «Давайте играть в войну!» Вообще-то для девочек игра была не самая подходящая, и обе амазонки отнеслись к моей идее без особого энтузиазма. Должен сказать, что игру в войну я затеял из-за превратного представления о том, каким должен быть «нормальный мальчишка»: гонять девчонок и не давать им спуску.
И вот в доме и во дворе началась скучная, никому из участников не интересная игра в войну. Сугико засела в кустах и изображала пулемет: «Та-та-та-та». Я решил, что пора положить этому занудству конец, и кинулся обратно в дом. Пулеметчица побежала за мной, не прекращая «стрелять». Тогда я схватился за грудь и рухнул на пол.
– Ты чего? – испугались кузины.
Не двигаясь и не открывая глаз, я ответил:
– Я убит в бою.
Как приятно это было – представлять себя лежащим навзничь. Невыразимый восторг охватил меня от одной фантазии, будто я застрелен и умираю. Я подумал, что, случись со мной такое, я бы, наверное, даже боли не чувствовал…
Детство, детство…
Мне вспоминается образ, который можно назвать символом тех лет. Он олицетворяет для меня сегодня все мое детство. Именно в тот миг оно, готовое меня покинуть, прощально взмахнуло рукой. У меня тогда возникло странное ощущение: будто мой внутренний отсчет времени прекратился, время хлынуло волной и вдруг замерло перед этой картиной, вбирая в себя людей, движения, звуки; когда точная копия будет составлена, оригинал растворится в глубинах времени, а мне на память останется портрет, точный макет моего детства. У каждого, наверное, хранится в памяти какое-нибудь событие, ставшее символом ранних лет жизни. Только в большинстве случаев воспоминание это бывает нечетким, как бы смазанным, его и событием-то не назовешь.
А случилось вот что. Однажды, во время летнего праздника, в ворота нашего дома снежной лавиной ворвалась шумная церемониальная процессия.
Бабушка попросила организаторов, чтобы ради старухи с больными ногами и ее маленького внука праздничное шествие прошло по нашей улице и завернуло к нам во двор. Обычно процессия следовала другим путем, но каждый год этот маршрут немного менялся, так что старейшина праздника согласился, а потом шествие мимо нашего дома постепенно вошло в традицию.
Все домашние, и я в том числе, стояли во дворе. Витые железные ворота были широко распахнуты, свежевымытые каменные плиты мостовой сияли чистотой. Неровный гул барабанов понемногу приближался.
Вскоре послышалось и пение; размеренное и заунывное, оно прорывалось сквозь крики и шум; я мог разобрать лишь отдельные слова, но песня явно заключала в себе главный смысл всего этого суетного и хаотического действа. Песня прославляла вульгарность единения человека с вечностью и еще ту грусть, которую несет в себе это единение, достигаемое смешением набожности и распущенности. Слились воедино все звуки: звон медных колец на церемониальном шесте священника, глухой рокот барабанов, вопли парней, тащивших носилки с алтарем. Сердце мое колотилось так сильно, что я едва мог дышать. (С тех пор радостное нетерпение для меня не столько сладостно, сколько мучительно.) Священник, несший церемониальный шест, был в маске лиса-оборотня note 8. Золотые глаза этого мистического зверя смотрели прямо на меня, их взгляд завораживал. Я схватился за рукав кого-то из домашних и вдруг ощутил, что в ликовании, которое вызывает во мне все это зрелище, есть нечто почти пугающее. Я уже готов был бежать оттуда. Именно тогда сформировалось мое отношение к жизни: когда я слишком страстно чего-то жду, когда мое воображение заранее разукрашивает грядущее событие сверх всякой меры, в конце концов получается вечно одно и то же: наступает долгожданный миг – и я убегаю прочь.