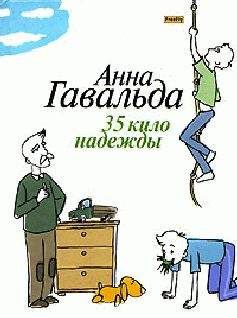Месье Мартино сделал мне предложение: помочь ему ободрать в доме старые обои, за плату. Я согласился. Мы вместе поехали в прокатную фирму «Килуту» и взяли два паровых насоса. Его жена с Шарлем укатили отдыхать, мои родители были на работе. Никто нам не мешал.
Мы поработали на славу, но как же умотались! Главное, дни стояли самые жаркие. Вкалывать в клубах пара, когда на улице 30 градусов в тени, — это, скажу я вам… Настоящая сауна! Я выпил пива, первый раз в жизни, оказалось — гадость страшная.
Дед Леон зашел навестить меня и вызвался нам помочь. Месье Мартино был в восторге. «Мы рабочая сила, а вот вы, месье Дюбоск, вы — мастер…» Понятное дело, дед-то занялся деликатными вопросами водопровода и электричества, пока мы обливались потом и ругались на чем свет стоит.
Месье Мартино часто говорил так: «дерьмус-дерьма-дерьмум-дерьморум-дерьмис-дерьмис» (это что-то из латыни).
Кончилось тем, что родители определили меня в коллеж Жан-Мулен, в двух шагах от дома. Сперва-то они не хотели, чтобы я там учился, потому что репутация у него нехорошая. Уровень никакой, и вдобавок у учеников отнимают деньги и вещи, но только там и согласились меня принять, так что выбора все равно не было. Они подали туда мои документы, а мне пришлось сходить сняться в «Фотоматон». Вид у меня был на этих фотках — жуть. То-то обрадуются в коллеже Жан-Мулен: придет в шестой класс тринадцатилетний детина с руками Халка и рожей Франкенштейна… Хорошенькое приобретение, нечего сказать!
Июль пролетел на всех парах. Я научился клеить обои. Научился резать рулоны на куски (заодно слово «рулон» выучил!) и мазать клеем. Научился ровно их раскатывать, подгонять края и проглаживать валиком, чтобы не было пузырей. В общем, много чему научился. Смело могу сказать, что теперь я ас в том, что касается клея «Перфакс» и обоев в полосочку. Еще я помогал деду распутывать электрические провода и проверять, есть ли ток.
— Горит?
— Нет.
— А так?
— Нет.
— Черт. А так?
— Есть.
Я делал сэндвичи шестьдесят сантиметров длиной, красил двери, менял пробки и слушал по радио «Умников» до посинения. Целый месяц. Счастливый месяц.
Вот бы так и дальше жить, в сентябре я начал бы ремонт в другом доме, у другого хозяина… Я думал об этом, кусая сэндвич с колбасой: еще три года продержаться — и привет честной компании.
Три года — это долго.
И еще одна вещь не давала мне покоя — здоровье дедушки. Он все чаще кашлял, все дольше не мог отдышаться и то и дело присаживался. Бабушка взяла с меня обещание не позволять ему курить, но я не мог с ним сладить. У него был один ответ:
— Не лишай меня этого удовольствия, Тотоша. Потом-то ведь помру.
Мне от этих слов выть хотелось.
— Нет, Тотоша, из-за этого удовольствия ты как раз и помрешь!
Дед посмеивался:
— С каких это пор ты себе позволяешь называть меня Тотошей, а, Тотош?
Когда он так мне улыбался, я понимал, что это человек, которого я люблю больше всех на свете, и что он не имеет права умирать. Никогда.
В последний день месье Мартино пригласил нас с дедом в классный ресторан, и после кофе они выкурили по большущей сигаре. Видела бы это бабушка, я даже подумать боялся, как бы она огорчилась…
Когда мы прощались, сосед протянул мне конверт:
— Держи. Ты их заработал…
Я не стал открывать конверт сразу. Открыл его дома, у себя в комнате, на кровати. Там было двести евро. Четыре оранжевые бумажки… Я обалдел: никогда в жизни я даже не видел столько денег сразу. Мне не хотелось ничего говорить родителям, а то бы они меня достали, чтобы положил деньги на сберегательный счет. Я спрятал их в такое место, где никому не пришло бы в голову искать, и стал думать, думать, думать…
Что же все-таки мне на них купить? Двигатели для моих макетов? (Стоит это… не скажу, сколько.) Комиксы? Конструктор «Сто необычайных сооружений»? Крутую кожаную куртку? Бошевскую электроножовку?
От этих четырех бумажек у меня голова шла кругом, и, когда 31 июля мы уезжали на каникулы и закрывали дом, я часа полтора не мог успокоиться, все искал тайник понадежнее.
В точности как мама — она тоже металась по комнатам с бабушкиными серебряными подсвечниками в руках. Наверно, на нас обоих смешно было смотреть. А воры, наверно, все равно хитрее нас…
Про тот август ничего особенного я вам не расскажу. Для меня он был длинным и скучным. Родители, как делали каждый год, сняли квартиру в Бретани, а я, как и каждый год, должен был делать задания на лето. Много-много страниц в толстой тетради.
Пропуск в шестой класс. Скоро в школу.
Я часами сидел, грыз ручку и смотрел на чаек. Я мечтал, как превращусь в чайку. Мечтал, как полечу к бело-красному маяку, во-он туда. Мечтал, как подружусь с ласточкой и в сентябре, например, четвертого — вроде бы случайно в день начала занятий! — мы вместе улетим в теплые края. Я мечтал, как мы будем лететь над океаном, как мы…
Тут я тряс головой, чтобы вернуться к действительности.
Я перечитывал задачу из учебника математики, какую-то муть про мешки с известкой, и опять мечтал: что если чайка сядет на условия задачи… Шлеп! И вонючая белая клякса расплывается по странице.
А сколько всего я мог бы сделать с семью мешками известки…
В общем, я мечтал.
Родители за моими занятиями не очень-то следили. У них ведь тоже были каникулы, и им не хотелось портить себе кровь, разбирая мои каракули. Все, что от меня требовалось, — каждое утро садиться за письменный стол и сидеть, приклеившись задом к стулу, до обеда.
Толку от этого был ноль. Я заполнял страницы проклятой тетради рисунками и чертежами один другого бредовее. Мне не было скучно, просто все равно. Быть здесь или где-то еще, думал я, какая разница? И еще я думал: быть или не быть, здесь или нигде, какая разница? (Как видите, в математике я дуб дубом, зато с философией дела обстоят получше!)
После обеда я ходил на пляж с мамой или с отцом, но никогда с обоими вместе. Это тоже входило в их каникулы: отдыхать друг от друга. Вообще, что-то не то происходило между моими родителями. То и дело какие-то намеки, замечания, подковырки, после которых в доме воцарялось гробовое молчание. Наша семейка каждое утро вставала не с той ноги. А я мечтал, чтобы за завтраком было весело, как в рекламе: «Йо-о-огур-ты «Э-э-эрман!» Но, как говорится, мечтать не вредно.
Когда пришло время паковать чемоданы и прибирать дом, мне почудился вздох облегчения. Идиотизм. Потратить кучу деньжищ, ехать в такую даль, чтобы всю дорогу рваться домой… Скажете, не идиотизм?
Мама извлекла из тайника свои подсвечники, а я — свои деньги. (Теперь могу сказать: я скатал их в трубочку и засунул в ствол автомата моего старого «экшн-мена»!) Бумажки пожелтели, и в животе у меня опять заныло.
В общем, пошел я в коллеж Жан-Мулен.
Я оказался не самым старшим в классе и даже не самым тупым. Особо я не напрягался. Сидел в уголке, помалкивал и избегал попадаться здоровенным лбам-заправилам. Про кожаную куртку пришлось забыть: вряд ли я долго проносил бы ее здесь… Меня больше не воротило так от школы — по той простой причине, что я вроде и не в школу ходил. Мне казалось, я хожу на площадку молодняка, где с утра до вечера резвятся две тысячи зверенышей. Я погружался в спячку. Приходил в ужас от того, как некоторые одноклассники разговаривали с учителями. Старался поменьше высовываться. Считал дни.
В середине октября мамино терпение лопнуло. Она не могла больше выносить отсутствия в моем классе учителя французского (или учительницы, я так и не узнал!). Не могла больше выносить моего словарного запаса, говорила, что я глупею день ото дня. Что мне впору сено жевать. Она не понимала, почему мне никогда не ставят отметок, и впадала в истерику, когда приходила за мной в пять вечера и видела, как мои ровесники курят травку под аркадами торговой галереи.
Короче, в доме опять скандал. Скандалище. Слезы, вопли и сопли рекой.
И как итог — пансион.
Проругавшись целый вечер, мои родители по обоюдному согласию решили отправить меня в пансион. Супер.
Всю ночь я стискивал зубы.
Назавтра была среда. Я пошел к бабушке и деду. Бабушка пожарила молодую картошку, как я люблю, а дед Леон все хотел мне что-то сказать и не решался. Обстановочка была как на похоронах. После кофе мы пошли к нему в закуток. Дед сунул в рот сигарету, но не зажег.
— Я бросаю, — сказал он. — Не ради своего здоровья, сам понимаешь, токмо ради моей зануды жены…
Я улыбнулся.
Потом дед попросил меня помочь ему привинтить петли к дверцам; и вот тогда-то, когда у меня наконец были заняты руки и голова, он заговорил со мной, мягко так, ласково: