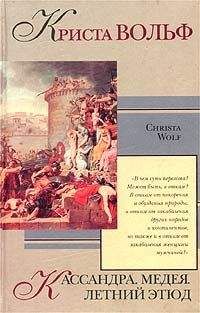Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя круглыми горками Близнецами, как шар в лузу. В апреле солнце садилось между Близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о шлык Киян-горы.
Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, которую он исходил еще мальчиком, и только профили гор держали облик этого края, и Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены, — наизусть, с закрытыми глазами, навсегда.
— Пошли, — бросил он сыну и начал спуск к дороге, шагая напрямик, не замечая обломков каменных плит с арабской вязью.
Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется как эскалатор в метро, он даже приостановился от удивления:
— Пап! — И тут же засмеялся: это шли овцы, заполняя буроватой массой всю дорогу и выплескиваясь на обочину. — Я думал, дорога движется.
Георгий понимающе улыбнулся…
Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой: метрах в пятидесяти на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая.
— Давай обойдем стадо, — предложил Артем. Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, они увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую-то находку на земле. Артем вытянул шею: между двумя сухими плетьми каперсового куста торчком стояла змеиная кожа; цвета старческого ногтя, полупрозрачная, местами она была скручена, кое-где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней палочкой. Вторая же оказалась взрослой женщиной, это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами.
Артем тоже присел возле змеиной КОЖИ:
— Пап, ядовитая была?
— Полоз, — пригляделся Георгий. — Здесь их много.
— Мы никогда такого не видели, — улыбнулась Нора. Она узнала в нем того утреннего, в белой рубашке.
— Я в детстве здесь однажды змеиную яму нашел. — Георгий взял в руки шуршащую шкуру и расправил ее. — Свежая еще.
— Неприятная вещица, — передернула плечом Нора.
— Я ее боюсь, — шепотом сказала девочка, и Георгий заметил, что мать и дочь уморительно похожи круглыми глазами и острыми подбородочками на котят.
«Какие милые малышки», — подумал Георгий и положил их страшную находку на землю.
— Вы у кого живете?
— У тети Ады, — ответила женщина, не отрывая глаз от змеиной кожи.
— А, — кивнул он, — значит, увидимся. В гости приходите, мы вон там… — Он махнул в сторону Медеиной усадьбы и, не оглядываясь, сбежал вниз.
Артем вприпрыжку понесся за ним.
Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка в полном безразличии к прохожим трусила по дороге, заваленной овечьим пометом.
— Ноги большие, как у слона, — с осуждением сказала девочка.
— Совсем не похож на слона, — возразила Нора.
— Я же говорю, не сам, а ноги, — настаивала девочка.
— Если хочешь знать, он похож на римского легионера. — Нора решительно наступила на змеиную кожу.
— На кого?
Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой как со взрослым человеком и поправилась:
— Не похож, не похож на римского легионера, они же брились, а он с бородой!
— А ноги как у слона…
* * *
Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по-кошачьи в комнате Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Обычно она перебиралась туда в начале мая, но в этом году весна была ранняя, в конце апреля стало совсем тепло, и она открыла и вымыла кухню еще до приезда первых гостей. К вечеру, однако, похолодало, и Медея надела выношенную меховую безрукавку, крытую старым бархатом, а Георгий накинул татарский халат, который уже много лет служил всей Медеиной родне. Кухня была сложена из дикого камня, на манер сакли, одна стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, неправильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол, в круглом пятне света стояли последняя сбереженная Медеей для этого случая бутылка домашнего вина и початая бутылка яблочной водки, которую она любила.
В доме был давно заведен странный распорядок: ужинали обыкновенно между семью и восьмью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь не полезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего: оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь.
Медея поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью: порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы, и она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши: «Вполне достаточно. Не наелся — возьми еще кусок хлеба».
Дети быстро привыкали к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали.
Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывал в открытый очаг — примитивное подобие камина — небольшое поленце.
По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта. Телеграмма. Георгий пошел наверх. Почтальонша была знакомая, шофер новый. Поздоровались. Она дала ему телеграмму:
— Что, съезжаются ваши?
— Да, пора уже. Как Костя-то?
— А чего ему сделается? То пьет, то болеет. Хорошая жизнь.
При свете фар он прочитал телеграмму: «приезжаем тридцатого ника маша дети».
Он положил телеграмму перед Медеей. Она, прочитав, кивнула.
— Ну что, тетушка, выпьем? — Он открыл початую бутылку, разлил по рюмкам.
«Как жаль, — думал он, — что они так быстро приезжают. Как хорошо бы пожить здесь вдвоем с Медеей».
Каждый из племянников любил пожить вдвоем с Медеей.
— Завтра с утра воздушку натяну, — сказал Георгий.
— Как? — не поняла Медея.
— Электричество на кухню проведу, — пояснил он.
— Да-да, ты уже давно собирался, — вспомнила Медея.
— Мать велела с тобой поговорить, — начал Георгий, но Медея отвела давно известный ей разговор:
— С приездом, Георгиу, — и взялась за рюмку.
— Только здесь я чувствую себя дома, — как будто пожаловался он.
— И потому каждый год пристаешь ко мне с этим глупым разговором, — хмыкнула Медея.
— Мать просила…
— Да я письмо получила. Глупости, конечно. Зима уже кончилась, впереди лето. В Ташкенте я не буду жить ни в зиму, ни в лето. И Елену к себе не приглашаю. В нашем возрасте места не меняют.
— Я в феврале там был. Мать постарела. По телефону с ней говорить теперь невозможно. Не слышит. Читает много. Газеты даже. Телевизор смотрит.
— Твой прадед тоже все газеты читал. Но тогда их не так много было. — И они надолго замолчали.
Георгий подбросил в огонь несколько хворостин, они сухо затрещали, в кухне стало светлей.
Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную диссертацию, которая всасывала его в себя как злая трясина, как только он к ней приближался, но зато, когда он уезжал из Академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал… Построил бы дом здесь… Феодосийское начальство все знакомое, дети Медеиных друзей… Можно в Атузах или по дороге к Новому Свету, там маячит полуразрушенная чья-то дача — надо спросить чья…
Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять Синопли жили в здешних местах…
Они медленно пили водку, старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец; хорошо бы найти промышленный бур…
Елена Степанян, мать Георгия, принадлежала к культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задушевной гимназической подруги. Медея Синопли была немеркнущей звездой женской гимназии; ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток. Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В тот год — а это был год двенадцатый — семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из-за легочной болезни младшей сестры Елены, Анаит. Семья осталась зимовать на своей даче в Судаке, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в Феодосии, в гостинице, и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию Медее, первой отличнице.