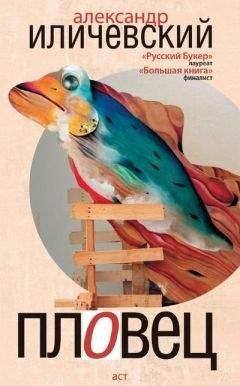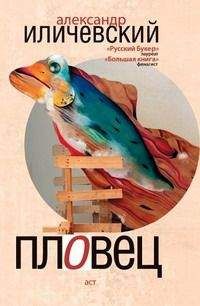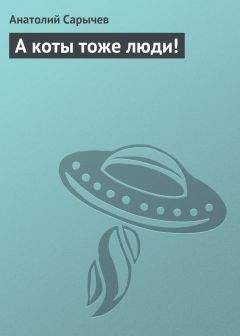Пересадил сына на другую руку, чтобы лучше рассмотреть, когда поравняется с ними, — это оказался больной мальчик, одутловатая печать болезни лежала на его добром лице, он был очень бледный, видимо, только в конце лета научился ходить, совсем недавно встретил свежий воздух… Дети, больные синдромом Дауна, развиваются медленно, и это ничего страшного, что так получается, нужно только терпение и любовь… Он одернул себя — слишком задержался взглядом на этом мальчике, дед — лысый человек лет шестидесяти в роговых старинных очках — посмотрел на него снизу вверх, не смея оторваться от внука, и глаза его были наполнены нежностью.
Накормил манной кашей с изюмом, стал укладывать, надо было и самому хоть сколько-то поспать, хоть чуть-чуть, но тут нужно было потрудиться, почитать сыну перед сном. После второй сказки сын заартачился, он еще не говорил, только несколько несложных слов, которые они повторяли трудолюбиво по несколько раз на дню: «мама», «папа», «заза», «ми-ка», «жужу», «сок»; сейчас они работали над словом «яблоко», получалось пока что «яколо», но это ничего, он сам заговорил только в четыре с половиной года. Они повторили свой словарь два раза, и дальше нужно было что-то изобретать, а что — было неясно, обоим уже надоели все сказки, но можно было просто что-то рассказывать, например, условие и устное доказательство теоремы Пифагора или вообще первое, что придет в голову, но только очень тихо, со спокойной усыпляющей интонацией, сын слушал внимательно, по взгляду казалось, что все понимает, но навряд ли, просто в самом звуке родного голоса различал какой-то теплый смысл, так необходимый для ощущенья себя вне одиночества.
— Я вот что тебе расскажу. Помнишь, к нам дедушка приезжал?
Сын кивнул.
— Так вот что я от него услышал. Оказывается, во время войны его мама, твоя прабабушка Лида, жила в эвакуации с детьми в Кушве, под Свердловском. Она работала в госпитале, но ее вдруг призвали в армию. Приказа никак нельзя было ослушаться, и она оставила в приюте Диму и новорожденную Марину, а Витю, первенца, твоего дедушку, взяла с собой. Дедушка был тогда чуть постарше тебя. Он, представляешь, помнит, как раненые в госпитале прятали его под кровать при обходе главврача. Как пол пах карболкой, как воняли бинты — дегтем, йодом. Еще дедушка помнит, как мама читала ему письмо от отца, с фронта, о том, что война скоро кончится и что он вернется и купит Витюше красную машинку… Но он погиб первого января сорок пятого. Лида, получив похоронку, самовольно уехала в Кушву. В приюте ей выдали справку, что Марина умерла в возрасте шести месяцев. Дима был слабый настолько, что еще долго учился ходить. От трибунала Лиду спасло то, что она бежала к отчиму в Баку. Еще пять лет она не прописывалась. Уже я отлично помню, что Лида никогда не справляла Новый год. Дарила подарки и куда-нибудь скрывалась.
Веки у сына уже слипались, теперь главное было не шевелиться и постараться дышать тихо-тихо, чтобы не спугнуть мгновение засыпанья.
Он слышал свое сердце, слышал, как чирикнула сигнализация машины, как ветер стронул занавеску, и ливмя ссыпались листья в окне, и в спальне давно знакомые предметы вдруг повернулись и поплыли в параллелепипеде зеркального шкафа…
Ему было пятнадцать лет, когда бабушка рассказала ему, не к слову, а с назиданием сообщила, как когда-то в составе врачебной комиссии она инспектировала детский дом для умственно отсталых детей и как сердце у нее — военного врача — разрывалось при виде запущенных, обездоленных, обворованных Богом и людьми детей.
«Бога нет», — заключила бабушка. «Почему?» — «Если бы был, не допустил бы, чтобы люди страдали».
К концу жизни Лида стала терять память, приговаривала, что склероз — самое удобное заболевание, с ним забываешь о других болячках и о маразме тоже. Она забывала, и теряла все на свете, и рассказывала одну и ту же историю много раз. Но в последнее лето жизни она вдруг вспомнила все и замолчала.
«Как медленно идет время — оно почти неподвижно, пасмурный свет, эта осень — вязкая смоляная ловушка», — подумал он и прислушался. Сын сопел у плеча, подхватил насморк, идти гулять вечером или не идти?..
Тогда, на обратном пути, они нагнали того пьяницу — недалеко же он ушел: в конце переулка поднимался после привала, по сантиметру подтягиваясь за решетку детского сада… Вот и с ним приключилось рабство медленности свершенья. Но с другой стороны — нет ничего мгновенней вечности, ведь это человек остановил время. Не было бы человека — так все бы и летело сквозь пустоту: железная планета, существо воздуха, живая пыль и прах, числовая прорва космических дистанций, клокочущие сгустки гравитации и неясных без человека энергий — все бы летело без оглядки, бессмысленно, без глупого нашего понимания, и все бы очень быстро кончилось, никто бы не заметил, почти мгновенно — настолько, насколько вообще есть смысл представлять это мгновение, так чьими же глазами видит Господь?
И он стал думать о том медленном мальчике, он вернулся взглядом в осенний желточный шатер, раскинувшийся над сквером. В снопах спелого света, ложившегося косыми токами, отчужденными от зрения, рассеянными во взвеси особенных осенних частичек — пыльцы отмиранья, вышагивал этот мальчик, торопко, с ясным чистым лицом, на которое легла клешня болезни, но ведь это же ничего, это совершенно неважно — тоже мне, какой предрассудок, ведь и нормальные умные люди с правильными лицами превращаются в подлецов, и на лице это написано бесспорней любой болезни…
Все равно он не мог понять: за что? Где же тут справедливость? Кому это наказание? Что-то замутилось в его голове, он давно так пристально не думал, давно не вынимал и не разбирал в пальцах сложносоставную ледышку своего мозга, а сейчас ему необходимо было избавиться от себя, улетучиться, и в голове что-то напружинилось, он чувствовал в мышлении физическую тягу, какой-то поворот в душевном смысле, его складе, будто все ранее выстроенные нейронные связи, связи прошлого и ожиданий, словно стая рыб, вдруг шарахнулись от хищника, полыхнили знаменем и ринулись в иную сторону… И он вспомнил, вспомнил, как в юности, когда учился по обмену за границей, в университете Сан-Франциско, подрабатывал летом развозчиком пиццы, в ресторане на Van Ness. Когда не было заказов, он торчал в пиццерии и наблюдал, как месят тесто, как раскручивают его над головой в пульсирующий блин, пускают в печную щель, полыхающую синими зубцами пламени, раскраивают с хрустом двуручным округлым резаком… Он подхватывал сумку-термос с заказом и нырял в неоновую сетку таинственного гористого города, затопленного туманами, с трех сторон тесно объятого океаном, увенчанного над проливом самым красивым в мире мостом… В ресторане работали великовозрастные неудачники или эмигранты, короткие смены по четыре часа тасовали его в калейдоскопе характеров и типов. Мексиканка Тереза, годившаяся ему в матери, не упускала случая ущипнуть или погладить. Джон, рыжеусый и сутулый, втихаря ненавидел негров и эмигрантов; однажды он в свой выходной заявился в стельку, вместе с надувной подругой под мышкой, толкаясь со столами, стал с нею всех знакомить, совать в лицо пустышку; утереться от губной помады. Хал, бывший наркоман, смышленый, симпатичный неврастеник, оравший по телефону на мать, сто раз на дню звонившую ему из дома для престарелых. Темноликий коротышка Кларк, с пугливым воровским лицом, сухожильный тихоня, к которому с панели по каким-то делам забегали проститутки, торчавшие на углу O’Farrel. С Кларком приятельствовала компания негров-скандалистов, время от времени подваливавших к прилавку, тыча в морду последним куском пиццы, с волоском в сыре, и Хал, скрипнув зубами, в который раз готовил им сатисфакцию: бесплатную Italian Garliс Supreme, двадцать один дюйм в диаметре.
Воспоминания о юности, давно отмершие, ссыпавшиеся с него без сожаления, взахлеб летели теперь сквозь переносицу и гортань, как однажды пролетел весь тот ночной город — роем трассирующего неона через горло, созвездия взорвали ребра, там застряли, когда, обкурившись с Халом марихуаны, он сдуру сел за руль и умчался за город к океану, заснул на пляже, на холодном песке, на рассвете чайка реяла над ним недвижно… Приходил в пиццерию и старик-китаец, работавший шестнадцать часов в сутки на пяти работах, не раз он подвозил его домой в Ричмонд, старик был добрый, разговорчивый, вечно угощал вкусностями, которые прихватывал с предыдущей смены — из кухни китайского ресторана на Clement. Китайцы в городе жили дружиной, и старик однажды привел в пиццерию сына своих соседей, великовозрастного парня, страдающего болезнью Дауна. Хозяин — Дин, подвижный толстый грек, пузатый красный фартук, мукой засыпанные стекла очков, охотно согласился взять Джорсона, так как тот проходил по программе трудоустройства инвалидов, и, приняв его на работу, Дин получил налоговую скидку…