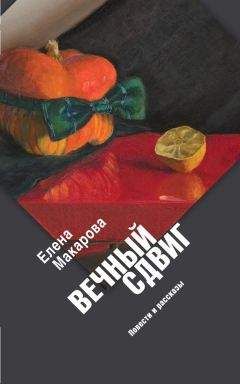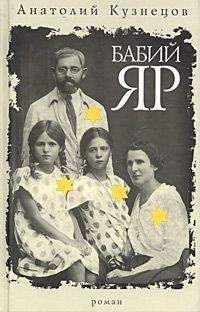– Мне нужно вернуться к обеду, к двум, в крайнем случае к половине третьего.
– Вернешься, – сказал Яков, – сейчас будет готово.
– А как же ювелирная мастерская? Никогда не забуду, как твоя мама говорила: «Вы только послушайте, ей надо в Москву! В эту толкучку! С Яковом ты будешь с ног до головы в золоте. Старшая дочь у меня, Яшина сестра, по модельной обуви».
Яков молча прибивал набойки, а его фейгеле все щебетала:
– Никогда не забуду, как мы сидели в пикапе, ну, когда вы меня украли со свадьбы, помнишь, и мама говорила: «Мой сын не смотрит на женщин, только на золото. Я ему говорю: сын, тебе пора жениться, а он отвечает: я уже женат на золоте. Теперь ты наше золото».
– Вот и все. Наденешь?
Яков подал Еве сапоги. Нет, она не изменилась. Он нагнулся и помог ей снять замшевый сапог.
– Замшу надо держать над паром, а потом пройтись мягкой бархоткой, – сказал он, разглядывая снятый сапог. – Тоже надо чинить.
– В другой раз.
– Почему? Снимай второй. Обслужу по высшей категории, это будет считаться срочный ремонт.
Яков достал рубль из кармана пальто.
– Вернешь своему мужу. В качестве выкупа.
– Какой выкуп, я обижусь.
Яков разорвал рубль и бросил к ее необутым ногам.
– Глупо сорить деньгами.
– Это ты рассказывай своей бабушке. Или мужу. Он пустит в дело, напишет: сапожник сорит деньгами.
– Ты по-прежнему живешь в Риге?
– Нет, здесь, на Взморье. В городе мама не дышит.
– А почему ты сменил работу?
– Собираешь материал для мужа? Или сама заразилась писаниной?
Яков быстро справился со второй парой, завернул сапоги в газету и вложил сверток в ее бордовую сумочку, под цвет юбки. Все под цвет. Вывесил табличку «Перерыв».
* * *
Жил он неподалеку, в Ригу наезжал редко. Друзья уехали, новых заводить поздно, все ему теперь стало поздно.
На лето полдома сдавалось, и за сезон он так уставал от визга столичных детей, от толчеи на кухне, но доход от этого был, и немалый, стоило все это терпеть, хотя и непонятно зачем. Им с мамой много не надо. Ну, там, племянникам подкинешь… Деньги лишними не бывают. Когда есть, можно не тратить, а когда нет…
Они вышли к морю. Ветер дул в спину, и Ева подняла воротник шубы. Завидев турник, она побежала к нему и, подпрыгнув, уцепилась за перекладину руками в перчатках. Она висела, болтая ногами в сапогах с новыми, сверкающими набойками, и он снова подумал, что она ничуть не изменилась. Он бы уже не смог разбежаться, подпрыгнуть и уцепиться за перекладину. Что-то умерло в нем, а в ней это что-то продолжало жить, хотя ее муж и писатель, а не золотых дел мастер.
Ева спрыгнула, оправила юбку, вытянув из-под шубы бордовые полы.
– Хорошо здесь, – сказала она.
– Неплохо.
– Я бы хотела жить на море.
– Я не отказываюсь от своего предложения. Я человек такой, – произнес он и подумал: а какой? – Предложение делаю раз в жизни.
Деревянный дом Якова стоял в дюнах, окруженных сосновым лесом. На снегу валялись объеденные белками шишки.
Работал телевизор. Перед ним в кресле, занимавшем полкомнаты, сидела мать Якова.
– Мама, полюбуйся, помнишь эту девушку?
Мама подняла на Еву мутные глаза: нет, не помнит.
– Это же моя невеста, мама!
В ответ мама только пожала плечами и снова уставилась в телевизор.
– Она теперь все забывает, годы, – сказал Яков.
Комната выглядела как вещевой склад, подушки и перины, сложенные в стопку, ждали дачников.
– Ты не куришь?
– Нет, я никогда не курил. Если хочешь курить, пойдем на кухню.
Маленькая кухонька была не убрана. Яков даже не предложил Еве снять шубу. Теперь ему хотелось, чтобы она скорее ушла. И чтоб никогда ее больше не видеть. Не нужно ему это.
– А пепельница есть? – Ева пристроилась у подоконника, заваленного кастрюлями с недоеденным супом и подгоревшей кашей.
«Такое запустение», – думала она, вспоминая роскошную квартиру в центре города, с пианино, на котором влюбленный по уши жених играл хаву-нагилу, семь-сорок, шолом-алейхем, а сестра – кубышка с грядой подбородков подпевала ему звонким голосом. Потом жених пошел спать в квартиру сестры, а мама все квохтала и пыталась после богатого свадебного стола втиснуть в Еву бутерброд с красной икрой. «Надо поправиться, – говорила она, – надо иметь вид и фасон. А то наберешь материи на одну, а хватит на четырех. Яков, мой Яков, он не видел женщин. Ходил мимо, кепкой на глаза… в заслон! Ой, майн фейгеле, ты будешь за ним, как за золотой стеной».
Яков поискал глазами что-нибудь, что могло бы заменить пепельницу.
– Да стряхивай сюда, – указал он на помойное ведро, полное луковых очисток. – Все равно пора выносить.
– Тогда я пойду, – Ева встала.
– Докуривай спокойно и пойдешь. А обувь держи в порядке, – зачем-то прибавил он.
Эва загасила сигарету о край помойного ведра.
– Если что, каблуки или подметки, милости просим.
Они остановились у мастерской. Яков снял табличку «Перерыв», встал спиной к двери, как бы давая понять ей, что все. Он на своем рабочем месте, так оказать, при исполнении.
Он видел, как она уходит, слышал, как цокают новые подковки по квадратам плит, пригнанных плотно, одна к одной.
* * *
– Тогда я был сноп рыжего сена. Поднеси ко мне спичку, и я сгорю дотла. Высокий, рыжий, голубоглазый, ты не смотри на меня, Мойше, отверни лицо и представь: мужчина в двадцать восемь лет, и ни одной женщины. Все говорили: так нельзя, Яков, это против природы. Но я знал свою природу и не желал пускать ее в расход.
Яков подлил себе водки. Мойше Хромой, часовщик с соседней улицы, не пил. Он частенько захаживал к Якову после работы поговорить о том о сем. Мойше проработал в часовом деле тридцать лет, он знал всех артельщиков наперечет, но дружбы ни с кем не водил. Яков ему приглянулся. Мать Якова попросила замолвить слово за сына, за своего ни в чем не повинного мальчика, которого загнали в тюрьму злые люди. Мойше не очень верил матери Якова – так уж, совсем без причины, не загонят, золото – это не политика, – но и слухам о якобы нажитых миллионах тоже не доверял. Что бы там ни было, а ничего не осталось. Говорят, у них был один из самых богатых домов в Риге, а войдешь в обшарпанный сарай на берегу и плюнешь на слухи. Артельщики говорили разное – и что ему отбили в тюрьме все внутренности и потому, мол, он не заводит семьи, и что якобы где-то захоронен золотой клад, который угрозыск так и не нашел и со злости влепил ему срок… Мойше много перевидал на своем веку и научился доверять своим глазам, но не чужим языкам. Безобидный человек Яков, смотрит за больной матерью, не дерет втридорога с дачников, а что нелюдим и все больше помалкивает – его дело. После тонкой ювелирной работы сапожное дело – это понижение. Большое понижение. Но лучшей работы было не сыскать на всем Взморье.
Впервые Мойше застал Якова пьяным. Глаза красные, щеки бураком, – не мужчина, а разъяренный бык. В таком положении человек не должен быть один, мало ли. Мойше по себе знает – в восемнадцать лет получил ранение на фронте и хотел пустить себе пулю в лоб, кому он теперь нужен, ни два, ни полтора, – но Изя, мир его праху, сказал: «Мойше, не предавай свой род, побойся Бога. Не ты дал себе жизнь, не тебе отнимать». Простые слова, вовремя сказанные. И вот он живет, занял свое место, а когда приходит клиент, он смотрит не на фигуру, а на работу. К чему ему совать свой нос за барьер и смотреть, какие там у Мойши ноги? Он забирает часы и говорит спасибо.
– Тебе надо на воздух, – робко заметил Мойше Якову.
– Ты помнишь, двадцать лет назад вся Рига была наша. И Взморье наше. И играли такие свадьбы, ты помнишь, Мойше, снимали зал, созывали музыкантов… И когда выходила замуж третья вода на пятом киселе, – собиралась вся родня. Можно было увидеть троюродную бабушку и пятиюродного дедушку. Все находили друг друга.
Чтоб я помнил, чья тогда была свадьба! Собралось человек сто, не меньше. Стол буквой «п», напротив оркестр. Выпили, закусили вместе с музыкантами. Когда люди сидят в ряд, их не видно. Но когда заиграла музыка…
Сначала медленно, потом быстрей, быстрей, и уже никого не удержать за столом, старики, молодые – все повскакали с мест, заложили пальцы подмышки. И я вижу – все расступились, взяли в круг маленькую пичугу в коротенькой юбочке, такой крошечной, что, когда она прыгала, были видны края белых трусов, – и она плясала – волосы – черный шелк, руки голые, тонкие – ударило мне в голову, не в голову, в самое сердце: вот она. Это она.
Музыка смолкла, но никто не расходился. Ждали еще. Пошло семь-сорок. Я подошел к ней, подал руку. Откуда она взялась здесь, с кем пришла? – хотел, но не посмел спросить. Оробел я, Мойше, такого со мной никогда не было. Рука у нее горячая, без единого колечка. Ни одного украшения на ней. Я снял с шеи золотую цепочку, набросил на нее, и цепочка легла на волосы. Ах, какие это были волосы – шапка тончайших паутинок.