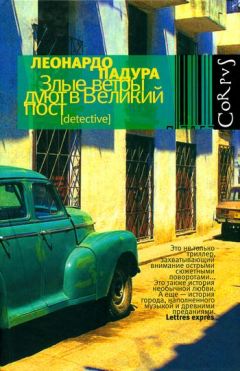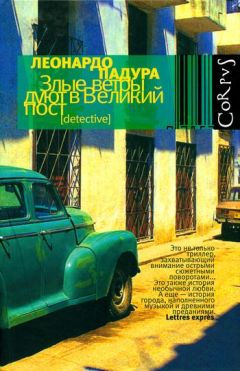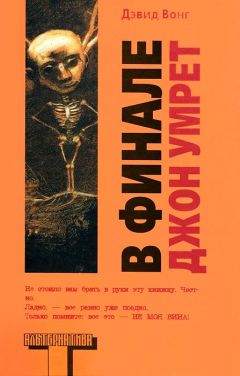Продолжая искать спасения, он впервые набирает номер телефона, названного Кариной восемь дней тому назад после замены колеса у польского «фиата». Память подсказывает цифры, и в трубке отдаленно и глухо звучит сигнал вызова.
— Слушаю, — отвечает женский голос. Мать Карины?
— Пожалуйста, позовите Карину.
— Карины здесь нет сегодня. А вы кто?
Кто? — спрашивает себя Конде.
— Знакомый, — произносит он вслух. — А когда она будет?
— Э-э, нет, не могу вам сказать…
Конде молчит, думая, что дальше.
— Бы не могли бы записать номер телефона?
— Да, одну минуту… — Очевидно, ищет, чем и на чем. — Так, диктуйте.
— Сорок девяносто два тринадцать.
— Сорок девяносто два тринадцать, — повторяет голос.
— Правильно. Передайте ей, что Марио будет ждать ее звонка по этому телефону после восьми.
— Хорошо.
— Большое спасибо. — И кладет трубку.
Конде делает над собой усилие и поднимается на ноги. По дороге в ванную снимает на ходу одежду, оставляя ее где придется. Становится в душевую кабинку и, прежде чем подвергнуть себя пытке холодной водой, выглядывает в маленькое окошко. Снаружи вечереет. Ветер продолжает гнать волны пыли, мусора и грусти. Внутри образовался стоячий омут ненависти и печали. Когда-нибудь это прекратится?
Проходя мимо дома Карины, Конде убедился, что оранжевый польский «фиат» отсутствует. До восьми оставалось где-то около четверти часа, и ему стало ясно, что какое-то время придется поволноваться. Пренебрегая шпионской конспирацией, он заглянул с тротуара в ближайшее окно, но увидел лишь все те же папоротники и маланги, только теперь позолоченные светом лампы накаливания.
Дверь дома Тощего, как обычно, стояла нараспашку, Конде вошел и громко спросил с порога:
— В котором часу здесь накрывают на стол? — потом прошел прямиком на кухню, где Тощий и Хосефина встретили его в позах актеров театра-буфф, схватившись руками за голову и широко раскрыв глаза, как бы говоря: не может быть!
— Нет, не может быть, — произнес вслух Тощий голосом персонажа, которого изображал, и наконец улыбнулся: — Ты что, ясновидящий?
Конде приблизился к Хосефине, поцеловал ее в лоб и переспросил, всем своим видом подчеркивая, что ничего не подозревает:
— Почему ясновидящий?
— Милый, может, у тебя с обонянием плохо? — спросила Хосефина, и тогда Конде осторожно, будто через край бездны, заглянул в чугунок, стоящий на плите.
— Нет, не может быть, — тамаль! — воскликнул он и вдруг понял, что у него больше не болит голова и депрессию вполне можно лечить.
— Да, сынок, но это не обычный тамаль, а из кукурузной крупы, которая куда лучше муки. Я ее промыла от шелухи и добавила тыкву для сочности, а еще там есть свинина, курица и говяжьи ребра.
— Черт подери! А теперь посмотрите, что я принес! — И жестом фокусника извлек из пакета бутылку рома. — «Каней» трехлетней выдержки, прозрачный, как слеза!
— Ну раз так, думаю, можем посадить тебя за стол, — снизошел Тощий, кивая головой во все стороны, будто заручаясь согласием многочисленных гостей. — А это кто тебе засветил так?
Конде посмотрел на Хосефину и обнял ее за плечи:
— Ты не полицейский, а значит, не задавай лишних вопросов, верно, Хосе?
Женщина улыбнулась, взяла его рукой за подбородок и повернула к себе лицом:
— Кто это тебя так, Кондесито?
Конде поставил бутылку на стол:
— Никто, просто наступил на грабли. Сам виноват… — И с помощью короткой пантомимы попытался показать происхождение раны на скуле, рассеченной перстнем Фабрисио.
— Врешь же, сукин сын!
— Ну хватит, отстань, Тощий… Ром будем пить или нет? — спросил и посмотрел на часы. Уже почти восемь. Наверное, сейчас позвонит.
Завершающий повтор музыкальной заставки известил об окончании очередной грустной серии ежевечерней бразильской теленовеллы, но Конде все же сверился с часами — половина десятого — и устало уронил голову на подушку. Тем не менее он протянул руку с пустым стаканом, услышав, как Тощий наливает себе.
— Больше нет, — объявил тот суровым голосом, каким дикторы сообщают о печальных событиях. — А у тебя, видать, и вправду паршивый выдался день.
— А будет еще паршивее. Во-первых, предстоит разборка с Дедом, а во-вторых, встреча с тем парнем. А эта красотка все не звонит. Ну где ее черти носят, а?
— Кончай, ты уже достал меня своим нытьем, объявится, куда она денется…
— Это уже слишком, Тощий, слишком. Я сегодня это понял, когда Дед предложил мне подождать до завтра с допросом мальчишки, и я согласился! А надо было сегодня же найти его! Но мне хотелось увидеться с Кариной… Полная катастрофа!
Конде приподнялся, чтобы сцедить себе в рот последнюю каплю рома, оставшуюся на дне стакана. Как обычно, он горько сожалел, что не купил вторую бутылку — выпитых 750 граммов не хватило для восстановления нормального содержания алкоголя в двух проспиртованных организмах. Конде даже подумал, что вместо рома влил в себя полбутылки растерянности и отчаяния, а желание выпить как было, так и осталось, если не усилилось. Сколько еще ему надо заглотить, чтобы достичь верхнего края запруды и, перевалившись через нее, впасть в желанное бессознательное забытье, требующее этих бесконечных возлияний?
— Я хочу напиться, Тощий, — сказал Конде и уронил стакан на матрас. — То есть напиться как скотина, чтобы упасть на четыре конечности, напустить в штаны и больше не думать ни о чем и никогда в жизни. Никогда…
— Да, похоже, ты вполне дозрел, — согласился Тощий и допил свой ром. — А ром был хорош, правда? Один из немногих достойных напитков, оставшихся в мире. А ты знаешь, что это самый настоящий «Бакарди»?
— Представь себе, знаю: и что он лучший в мире, и что это единственный настоящий «Бакарди» из всех, что производятся, и прочее, и прочее… Только мне сейчас на все это наплевать. Я просто хочу рома. Или все равно чего, пусть будет алколайт, сухое вино, спиртовый раствор борной кислоты, настойка портулака, самогонка — что угодно, лишь бы в голову ударяло.
— Понятно. У тебя крыша едет. И лишь оттого, что женщина не пришла с работы. Вот что любовь делает с нормальным человеком. А ведь я тебя предупреждал, черт подери. Скажи, а если она тебя бросит…
— Заткнись, я и думать об этом не хочу… Просто сегодня я действительно не могу без нее. Слушай, одолжи мне денег на литровку для полного счастья. Хоть из-под земли достану, — пообещал Конде, вставая с кровати. Он взял пакет, с которым пришел, и положил в него пустую бутылку.
В общей комнате Хосефина смотрела по телевизору викторину «Напиши и прочитай». Участникам предстояло угадать историческую личность двадцатого века, латиноамериканца и, судя по дополнительным признакам, кубинца. Еще и артиста, как только что выяснилось.
— Наверняка это Пельо эль Афрокан,[30] — предположил Конде и подошел к Хосефине. — Удалось узнать что-нибудь, Хосе?
Женщина отрицательно покачала головой, не отрывая глаз от телевизора:
— Ох, милый, два дня уже не выхожу из дома. Ты только посмотри, кем оказалась эта историческая личность, — сказала она, указывая подбородком на экран. — Клоун Чорисо. По-моему, это просто неуважение ко всезнающим профессорам.
Перед уходом Конде опять поцеловал ее в лоб и обещал скоро вернуться — не с пустыми руками.
Он остановился на перекрестке и задумался. Слева два бара манили его огнями, справа находился дом Карины. Там же возле тротуара стоял грузовик, и Конде пригрезилось, что за ним может прятаться маленький польский «фиат». Он повернул направо, миновал дом Карины, по-прежнему запертый, и не увидел за грузовиком никакой другой машины. Возвращаясь к перекрестку, задержался напротив ее дома. Ему хотелось пройти через калитку, постучать, сказать: я полицейский, куда она делась, черт возьми? — и рука его уже взялась за прут металлической решетки, но остатки гордости и здравого смысла не дали осуществиться этому мальчишескому порыву. Конде зашагал дальше по улице в поисках рома и забытья.
— Она так и не позвонила, — с трудом выговорил Конде, собрав силы, потом поднес стакан ко рту и сделал глоток. Заканчивалась вторая бутылка, когда из гостиной донеслась мелодия национального гимна, завершающая телевизионную программу.
В двери комнаты возникла Хосефина и невольно перекрестилась: перед ней сидели двое мужчин в полубесчувственном состоянии, голые по пояс, каждый со своим стаканом в руке. Ее сын с расплывшимися потными телесами сонно клонился к подлокотнику инвалидной коляски. Конде сидел на полу, прислонясь спиной к кровати, и хрипел в приступе кашля. Рядом стояла пепельница, дымящаяся наподобие жерла вулкана, пустые бутылки лежали, как пара трупов, и доживала свой век третья.